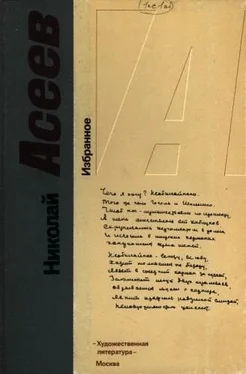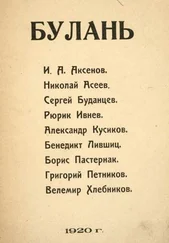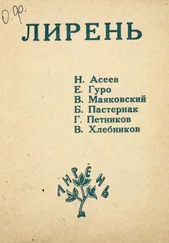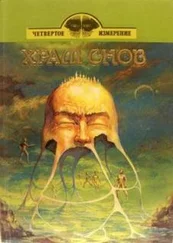Ей будто не додано
славы и власти,
и тайно идет она,
злобясь и ластясь.
С построечной пыли
я крикну на это:
«Мы все-таки были
до черта поэты!»
Пусть смазанной тушью
на строчечном сгибе
нас ждет равнодушья
холодная гибель.
Но наши стихи
рокотали, как трубы,
с ветрами стихий
перепутавши губы.
Пусть гаснущий Гаршин
и ветреный Пушкин
развеяны в марши,
расструганы в стружки.
Но нашей строкой
до последнего вздоха
была беспокойна
живая эпоха.
И людям веков
открывая страницы,
она – далеко –
ок сохранится.
Тасуй же восторг
и унынье тасуй же,
чтоб был между строк
он прочнее засушен.
Чтоб радостью чаши
и тяжестью вздоха
в лицо им сейчас же
дохнула эпоха.
И запах – душа, –
еле слышный и сладкий, –
провеял, дыша,
от забытой закладки!
1928
Довольно
в годы бурные
глухими
притворяться:
идут
литературные
на нас
охотнорядцы.
Одною скобкой
стрижены,
сбивая
толпы с толка,
идут они
на хижины
Леф-поселка.
Распаренные
злобою,
на всех,
кто смел родиться, –
грудятся
твердолобые
защитники
традиций.
Смотрите,
как из плоского
статьи-кастета –
к громам
душа Полонского
и к молниям
воздета.
Следите,
как у Лежнева, –
на что уж
робок, –
тусклеет
злее прежнего
зажатый обух.
Как с миной достохвальною,
поднявши еле-еле
дубину
социальную
влачит Шенгели.
Коснись,
коснись багром щеки,
взбивай
на пух перины.
Мы знаем вас,
погромщики,
ваш вид
и вой звериный.
Вы будто
навек стаяли,
приверженники Линча,
но вновь,
собравшись стаями,
на нас идете
нынче.
Вы будто
были кончены –
тупое племя,
защитники
казенщины,
швейцары
академий.
Вы словно
в даль Коперника
ушли
и скрылись,
но вновь
скулите скверненько
с-под ваших крылец.
В веках
подъемлют зов они,
им нет урона.
Но мы
организованы.
Мы –
самооборона!
Чем злее вы,
тем лучше нам,
тем крепче
с каждым годом,
привыкшим
и приученным
к дубинам
и обходам.
Чем диче
рев и высвисты,
чем гуще
прет погромщик,
тем
песню сердца вызвездим
острей
и громче!
1927
Раньше
воспевали роковую
женщину
как таковую,
и от той привычки
вековой
плохо приходилось
«таковой».
Ревностью
к романтике пылая,
классиков преданья
сохранив,
всем,
кого пленяет
жизнь былая,
в женский день
расскажем мы про них.
Женщина у предков
трактовалась странно:
как бы
ни была она тиха, –
в гроб вогнав любовью,
Донну Анну
полагалось
воспевать в стихах.
Пяльцы,
кружева
да вышиванье,
бледность щек
и томность глаз,
воплотясь
в блудливом Дон Жуане,
возносил в ней
феодальный класс.
А когда она,
поверив слепо,
принимала
этих сказок вздор,
приходил
карать ее из склепа
оскорбленный в чувствах
Командор.
В прах распался
феодальный замок,
тонких шпаг
замглился ржавый шлак,
но от прежних
обреченных самок
женщина
далеко не ушла.
Тех же чувств
наигранных горенье,
то же
«Дона» Вронского лицо,
и другая Анна,
по фамилии Каренина,
падает
под колесо.
С Командором вровень,
схож по росту,
охраняя
давних дней устой, –
феодалов
каменную поступь
через труп ее
пронес Толстой.
И хоть брови –
небо подпирали:
«Мне отмщение, и аз воздам», –
вывод был
из графовой морали:
женщине
нужна узда.
Наше небо
засветилось выше,
Дон Жуанов
страсти сократив,
но еще не всеми
четко слышен
наших песен
явственный мотив.
Жизнь –
литературы
многогранней:
жизнь не смотрит
прошлому в глаза,
и о третьей,
настоящей Анне
нам еще
никто не рассказал.
Не во взорах,
от влюбленья вялых,
жизни и борьбы
не вдалеке, –
тысячи
машинных ровных прялок
кружатся
в большой ее руке.
Десять лет
у нас уже жива она,
ей не страшен
древних басен гнет:
подпусти к ней только
Дон Жуана, –
отлетит –
лишь бровью шевельнет.
К диспутам публичным
не готовясь,
без особых
в том учителей, –
покажись
какой-нибудь толстовец –
с бороды
утрет ему елей.
Скажете:
«Да это ведь агитка,
ждут живого
человека все».
Что ж,
портрет мой
не на рифмах выткан,
ткал его
Ивано-Вознесенск.
И об нашей
Анне Куликовой
разговор немолчный –
на станках;
вон –
ее портрет опубликован
в номере десятом
«Огонька».
Не грозитесь,
«каменные гости»,
отойдите
в темных склепов тень.
Ваши Анны –
тлеют на погосте,
наши –
ткут и вяжут
новый день.
Читать дальше