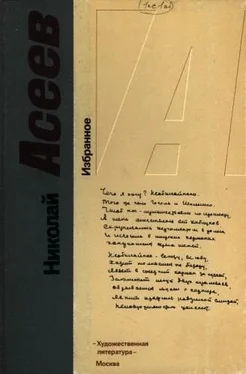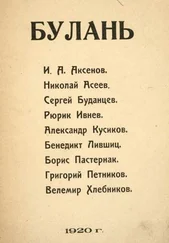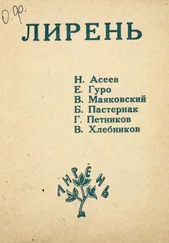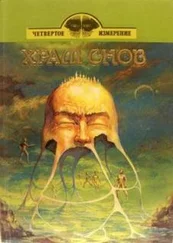1928
У меня
хорошая жена,
у тебя
отличные ребята.
Что ж велит мне
мерить саженя
по пустыне
сонного Арбата?
Никаких
сомнений и надежд,
никакой
романтики слезливой.
Сердце!
Не вздувайся и не тешь
свежестью
весеннего разлива.
Никаких
мечтаний и иллюзий,
что ни делай,
как ни затанцуй,
как бильярдный шар
к зеленой лузе,
ты летишь
к провалу и концу!
Нет,
не за тебя одну мне страшно, –
путь-дорога
у тебя своя;
с черной ночью
в схватке рукопашной
я не за тебя одну
стоял.
И не от тебя одной,
я знаю,
седь
уже сжимает мне виски;
но в тебе
вся боль моя сквозная
отразилась
грубо,
по-мужски.
Боль
за всю за нашу
несвободу,
за нелегкость жизни,
ветхость стен,
что былого поколенья
одурь
жизнь заставит
простоять в хвосте.
О любви
теперь уже не пишут,
просто стыдно стало
повторять.
Но – смотри:
как страшно близко дышит
над Кремлем
московская заря.
1928
День сегодня
такой простой,
каких не сыщешь
и – в сто.
Синь сегодня
так далека,
будто бы
встал великан.
Это ты,
охлажденье мое,
молча встаешь,
не поешь,
высветляя
свое лезвие,
свой
отпотевший нож.
И от таких
безразличных глаз –
свет угасает
враз.
Все затянулось
и зажило,
и мне –
не тяжело.
Все заровнялось
и заросло:
не двигать ни рук,
ни слов.
Бульварный калека
трясет головой
(тоже –
вопрос половой).
Нынче
такой бесприметный день,
что горько
глядеть на людей.
Даже трамваи
бегут от меня,
зло и протяжно
звеня.
Даже моторы –
друзья для других –
фыркают,
как враги…
Что же,
лучше ли этот –
тех
дней
забот и помех,
дней волнений
и дней тревог;
дней,
когда стыть
я не мог?
Дней,
в которые,
все озаря,
злая
вставала заря?
Дней,
в которые
в шумном ветру
шли
влюбленность и труд?!
1928
Оставьте,
баптисты,
скучную
проповедь, –
вам
этих дней
все равно
не отпробовать.
Тот
не уныл,
кто горечью
хвалится.
Радость
с луны
все равно
не свалится.
Молотом,
скальпелем,
клапаном,
книгою –
сердце
по каплям
волнение
двигает.
Сердце мое,
волнуйся
и стукай!
Жизнь –
не очень
понятная
штука.
Сердце мое,
тревожься
и рвись
вниз,
в глубину,
и – вверх,
ввысь!
Свет твой
вечный –
с открытой
душой –
первой
встречной,
далекой,
чужой.
Шире
и выше
взлета
задор,
пока
от вспышек
не сгинет
мотор,
пока
не сгаснет
горенья
руда,
пока
от сказки
не станет
следа!
1928
Не будет стона сирого,
ни вопля, ни слезы;
идите, дни, боксировать
на рифм моих призы.
Бегите, физкультурники,
купать в ветрах лицо;
крутитесь, дни, на турнике
летучим колесом.
А ты, любовь, не высыпься,
не грянься комом вниз,
на вытянутых бицепсах
бодрее подтянись, –
Чтоб, зубом заскрежещенный,
унынья скрылся лик;
чтоб все на свете женщины,
как звезды, зацвели;
Чтоб каждый взял на выдержку
безмолвья сон дурной;
чтоб каждый пел навытяжку
натянутой струной;
Чтоб шла навстречь весна ему
тревожно и свежо;
чтоб не было незнаемой
и не было чужой.
1928
1929
У Пушкина чаши,
У Гаршина вздохи
отметят сейчас же
дыханье эпохи.
А чем мы отметим
и что мы оставим
на нынешнем свете
на нашей заставе?
Как время играет
и песня кипит как,
пока меж буграми
ныряет кибитка.
И, снизясь к подножью
по ближним и дальним,
колотится дрожью
и звоном кандальным…
Неужто ж отныне
разметана песня
на хрипы блатные,
на говор хипесниц?
И жизнь такова,
что – осколками зарев
нам петь-торговать
на всесветном базаре?
Читать дальше