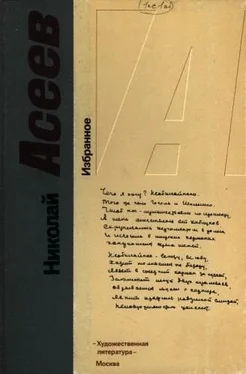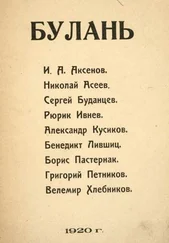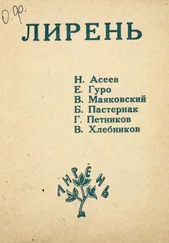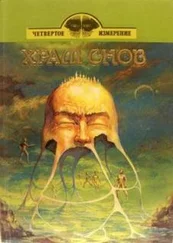1925–1927
На Москву да на реку
светит по фонарику –
с каждого пролетца
свет на воду льется.
Я на Каменном мосту
и гуляю и расту,
только мне не вырасти:
очень много сырости.
За мостом на Балчуге
молодые мальчики,
молодые, русые,
бритые, безусые.
Как вас по имени,
как вас по отчеству,
как ваша фамилия? –
очень знать нам хочется.
Хоть и очень интересно, –
не вступаю в разговор
с незнакомым, неизвестным:
может, жулик либо вор.
Автобусы идут
номерованные.
Ох, думки мои,
замурованные.
Возьми меня вывези,
что ж я здесь на привязи?
Поскорее вывози,
не завязни во грязи.
Как у нас на Яузе
ходят тенью кляузы,
под стеной столетнею
вьется плесень сплетнею.
Побегу я на реку,
поклонюсь фонарику:
посвети мне, друг фонарик,
чтоб не сбиться мне с пути.
Светит город за рекой,
до него подать рукой,
если б встрелся провожатый –
хоть ледащенький какой.
Чтобы встрелся на дороге
вежливый, воспитанный,
чтобы был бы без мороки
в жизни друг испытанный.
Ах, Чистые пруды,
тяжелые труды.
Разметались мои мысли,
заплуталися следы.
1928
В Крыму расцветают черешни и вишни,
там тихое море и теплый прибой.
А я, никому здесь не нужный и лишний,
не знаю, как быть и что делать с собой.
А я пропадаю за милую душу,
за милую душу, за синие дни;
ночую без крыши и сплю без подушек,
скитаюсь без цели, живу без родни.
На Курском вокзале – большие составы,
доплаты за скорость платить не могу.
А мне надоело стрелять у заставы,
на темном подъезде на желтом снегу.
Уже декапод нажимает на рельсы,
уходит на юг, как и в прошлом году…
Смотри, беспризорник, вернее нацелься,
ныряй под вагон на неполном ходу.
Залягу жгутом в электрический ящик,
от сажи и пыли, как кошка, рябой;
доеду – добуду краев настоящих,
где тихое море и теплый прибой.
Доеду – зароюсь в горячий песочек,
от жаркого солнца растает тоска;
доеду – добуду зеленую Сочу,
зеленую Сочу и Нову Аскань.
Нас пар не обварит и смерть не задушит,
бригада не выгонит из западни.
Мы здесь пропадем за милую душу,
за милую душу, за синие дни.
1927
1928
Глаза насмешливые
сужая,
сидишь и смотришь,
совсем чужая,
совсем чужая,
совсем другая,
мне не родная,
недорогая;
с иною жизнью,
с другой,
иною
судьбой
и песней
за спиною;
чужие фразы,
чужие взоры,
чужие дни
и разговоры;
чужие губы,
чужие плечи
сроднить и сблизить
нельзя и нечем,
чужие вспышки
внезапной спеси,
чужие в сердце
обрывки песен.
Сиди ж и слушай,
глаза сужая,
совсем далекая,
совсем чужая,
совсем иная,
совсем другая,
мне не родная,
не дорогая.
1928
Летят недели кувырком,
и дни порожняком.
Встречаемся по сумеркам
украдкой да тайком.
Встречаемся – не ссоримся,
расстанемся – не ждем
по дальним нашим горницам,
под сереньким дождем.
Не видимся по месяцам:
ни дружбы, ни родни.
Столетия поместятся
в пустые эти дни.
А встретимся – все сызнова:
с чего опять начать?
Скорее, дождик, сбрызгивай
пустых ночей печаль.
Все тихонько да простенько:
влеченье двух полов
да разговоры родственников,
высмеивающих зло.
Как звери когти стачивают
о сучьев пустяки, –
последних сил остачею
скребу тебе стихи.
В пустой денек холодненький,
заежившись свежо,
ты, может, скажешь: «Родненький», –
оставшись мне чужой.
И это странно весело
и страшно хорошо –
касаться только песнею
твоих плечей и щек.
И ты мне сердце выстели
одним словцом простым,
чтоб билось только издали
на складках злых простынь;
чтоб день, как в винограднике,
был полон и тяжел;
чтоб ты была мне навеки
далекой и чужой!
1928
Слушай, Анни,
твое дыханье,
трепет рук,
и изгибы губ,
и волос твоих
колыханье
я, как давний сон,
берегу.
Эти лица,
и те,
и те, –
им
хоть сто,
хоть тысячу лет скости, –
не сравнять с твоим
в простоте,
в прямоте
и в суровой детскости.
Можно
астрой в глазах пестреться,
можно
ветром в росе свистеть,
но в каких
человеческих средствах
быть собой
всегда и везде?!
Ты проходишь
горя и беды,
как проходит игла
сквозь ткань…
Как выдерживаешь
ты это?!
Как слеза у тебя
редка?!
Не в любовном
пылу и тряске
я приметил
крепость твою.
Я узнал,
что ни пыль, ни дрязги
к этой коже
не пристают.
И когда
я ломлю твои руки
и клоню
твоей воли стан,
ты кричишь,
как кричат во вьюге
лебедя,
от стаи отстав…
Читать дальше