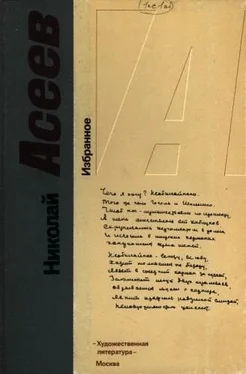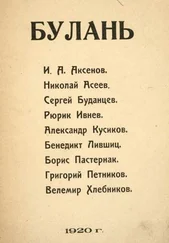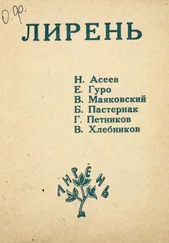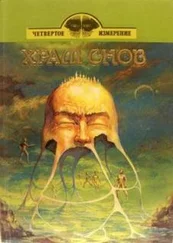[1927]
Будет дурака ломать,
старый Рим!..
Термы Каракалловы –
это ж грим!
Втиснут в камни шинами
новый след.
Ты ж – покрыт морщинами
древних лет.
Улицами ровными
в синь и в тишь
весь загримированный
стал – стоишь.
Крошится и рушится
пыль со стен;
нету больше ужаса
тех страстей.
Трещина раззявлена
в сто гробов;
больше нет хозяина
тех рабов.
Было по плечу ему
кладку класть
спинами бичуемых
в кровь и всласть.
Без воды, без обуви –
пыл остыл…
Пали катакомбами
в те пласты.
Силу силой меряя,
крался враг.
Римская империя
стерлась в прах.
Все забыто начисто:
тишь и тлен.
Ладаном монашества
взят ты в плен.
Время, вдоль раскалывая,
бьет крылом.
Бани Каракалловой
глух пролом.
Рим стоит
как вкопанный,
тих и слеп,
с выбитыми окнами –
древний склеп.
Брось ты эти хитрости, –
встань, лобаст,
все молитвы вытряси
из аббатств.
Щит подняв на ремни
боевой,
стань на страже времени
своего!
[1927]
В оправу
дольней тишины,
в синеющий
ларец ее –
на дно времен –
погружены
сады твои,
Флоренция.
Сквозь мрамор,
бронзу
и гранит
века твои
не ожили,
и прищур мертвенный
хранит
тяжелый сумрак
Лоджии.
И эта
смертная тоска
сквозь
каменное кружево
застыла
в ссохшихся мазках
художников
Перуджии.
И эти
древние глаза
закрылись,
радость высияв,
и черепом
глядит фасад
ощеренной
Уффиции.
И времени
невидный шлак
покрыл
резной ларец ее,
точно под воду
ушла
и там цветет
Флоренция.
Лишь башня Джотто
к небу вверх
столбом взлетает
яростным:
окаменелый
фейерверк
громады
семиярусной.
Да под пыльцой
и под грязцой,
сердясь,
что время сглажено,
долбит его
своим резцом
упорный
Микеланджело.
Но этот мост,
и этот свод,
и звонкий холод
лесенок
цветет –
из-под воздушных вод
зеленой влажью
плесени.
И ты поникла
навсегда,
и спишь,
без сил, без памяти,
и
бесконечные года
линяют
на пергаменте.
[1927]
Не гордись,
что, все ломая,
мнет рука твоя,
жизнь
под рокоты трамвая
перекатывая.
И не очень-то
надейся,
рифм нескромница,
что такие
лет по десять
после помнятся.
Десять лет –
большие сроки:
в зимнем высвисте
могут даже
эти строки
сплыть и выцвести.
Ты сама
всегда смеялась
над романтикой…
Смелость –
в ярость,
зрелость –
в вялость,
стих – в грамматику.
Так и все
войдет в порядок,
все прикончится,
от весенних
лихорадок
спать захочется.
Жизнь без грома
и без шума
на мечты
променяв,
хочешь,
буду так же думать,
как и ты
про меня?
Хочешь,
буду в ту же мерку
лучше
лучшего
под цыганскую
венгерку
жизнь
зашучивать?
Видишь, вот он,
сизый вечер,
съест
тирады все…
К теплой
силе человечьей
жмись
да радуйся!
К теплой силе,
к свежей коже,
к синим
высверкам,
к городским
да непрохожим
дальним
выселкам.
1929
Осенними астрами
день дышал,
отчаяние
и жалость! –
как будто бы
старого мира душа
в последние сны
снаряжалась;
как будто бы
ветер коснулся струны
и пел
тонкоствольный ящик
о днях
позолоченной старины,
оконченных
и уходящих.
И город –
гудел ему в унисон,
бледнея
и лиловея,
в мечтаний тонкий дым
занесен,
цветочной пылью
овеян.
Осенними астрами
день шелестел
и листьями
увядающими,
и горечь горела
на каждом листе,
но это бы
не беда еще!
Когда же небес
зеленый клинок
дохнул
студеной прохладою, –
у дня
не стало заботы иной,
как –
к горлу его прикладывать.
И сколько бы люди
забот и дум
о судьбах его
ни тратили, –
он шел – бессвязный,
в жару и бреду,
бродягой
и шпагоглотателем.
Он шел и пел,
облака расчесав,
про говор
волны дунайской;
он шел и пел
о летящих часах,
о листьях,
летящих наискось.
Он песней
мир отдавал на слом,
и не было горше
уст вам,
чем те,
что песней до нас донесло,
чем имя его –
искусство.
Читать дальше