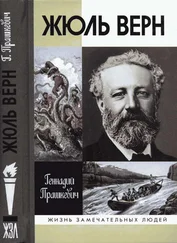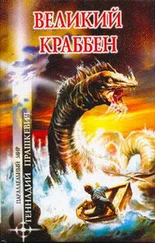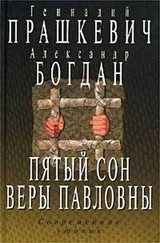Оставалось немногое: оправдать творчеством эти заявки.
Мир, который с 60-х годов прошлого века вошёл в поэзию Геннадия Прашкевича, – многолик и прекрасен. Разумеется, в его стихах, как в стихах его коллег по литературному кругу Академгородка, это, прежде всего, зимняя Сибирь: « Ах, как дует из ущелий, ах, как дует и метёт, голубые лапы елей превращая в хвойный лёд… » И далее: «… облака как балерины, как танцовщицы Дега». Изящный и точный образ. Рядом с ним уже не удивляет появление кавалера Глюка и Гагенбека, завоевателя Кира, нити Ариадны и египетских пирамид. Точный глаз поэта – не в описании картин и явлений природы, а в создании «живой картины», не важно – современной или исторической, реальной или вычитанной из книг. « Египетский суфлёр не подсказал ни строчки…» – начинает поэт обстоятельный рассказ, и переводит его в стремительный показ развёртывающейся перед нашими глазами картины: « …и толпы враз орут, увидев, меж цветами танцовщицы идут, играя животами ».
Снежная сибирская зима у Геннадия Прашкевича описана не раз, – и эти описания призваны сообщить нам нечто важное о мире и о себе: « Мерзлая ветвь не хрустнет, нежная тишина. Замерла в снежной грусти найденная страна. Замерли даже тени, резкие, как ножи. Зимнее вдохновение, белые миражи». Нечто очень важное передано здесь музыкой слова, гибкой строкой, этим неожиданным эпитетом: найденная страна. И сочетанием-противопоставлением певучих строк с длинными словами и двумя ударениями в строке – нежная тишина… найденная страна… зимнее вдохновение… белые миражи… – и резких строк из трёх коротких слов и трёх ударений: « Замерли даже тени, резкие, как ножи ». Передать прозой мысль этого стихотворения невозможно.
Ещё одна сибирская зима – это лес… известковое безлюдье… ледниковые мосты… И среди безлюдья активный герой, – геолог, охотник, просто бродяга, не в этом дело, важно, что герой молод и активен: « Только стелется морозный след мой – вечное кольцо, да стеклянные занозы раздирают мне лицо».
И ещё одна зима… « Снег валил опять, опять белыми бумажками. Нам пришлось тропинки мять валенками тяжкими… » Песня детства – отсюда и валенки тяжкие. Точно и кратко.
Обычно природа – зимняя, осенняя, летняя, – нужна поэту как фон для рассказа о событии, о некой социально очерченной группе людей. В стихотворении « Самое начало » из цикла « Провинция » снег у Геннадия Прашкевича не случайно определён как « сухой, морозный, тугой, как женское бедро », потому что дальше пойдёт рассказ о деревенских бабах и о юном поэте, в сердце которого просыпается первое желание. В стихотворении « О, эта деревня стоила всех чудес… » тоже речь идёт о жизни замкнутого мирка сибирской глубинки: « Сколько имён, о которых не ведал свет, сколько снегов, вылетающих, как из пушек! » Последнее сравнение – из другой жизни, – города, киносъемки с её искусственным снегом, вылетающим из особого приспособления – пушки . Город реален, а сибирский мир – незабываем и желанен: « Годы идут, но там лампа горит, маня, ищет меня, зовёт, теплится из потёмок. Может быть, до сих пор женщина ждёт меня, но броду нет на реке, а лёд над теченьем тонок ». Стихотворение настолько целомудренно, что можно только гадать, кто это женщина – мать, юношеская мечта, возлюбленная?
Так умеет писать поэт Геннадий Прашкевич. Мастерство его проявляется в умении создавать портреты людей – современников и исторических героев – не тождественных автору. Это Назым Хикмет, это Катулл, Ли Тай-бо. Это портреты городов, с которыми связаны более или менее продолжительные эпизоды и периоды жизни поэта – Ленинград, Томск, Бухара, Самарканд, Ирбит, Несебыр. Часто они даны какой-то одной чертой, одной деталью, иногда воспоминанием, почему-то дорогим автору. Например, в стихотворении про Назыма Хикмета это всего лишь тоненькая книжка стихов, найденная на чердаке деревенской избы, даже не просто книжка, а « недокуренная кем-то », в которой поэт увидел поразившие его строки: « Я болен. Я тебя ревную. Прости меня ».
Умение использовать чужую строку, то, что мы теперь называем принципом центонности – приводит в целом ряде стихотворений Геннадия Прашкевича к блестящим результатам. Это строка Скотта Фицджеральда « Ночь нежна », ставшая рефреном в восьмистрочных строфах; строка Байрона « Прощай. И если навсегда, то навсегда прощай » – тоже рефрен, но уже в двеннадцатистрочных строфах… В «портретах» городов центральной деталью часто оказываются изображения храмов. О Самарканде: « Реставрированные мечети. Свежая глазурь на пыльных стенах – заплаты на вечности… » О Несебыре: « И храмы – старые крестьянки – богини праздников и будней ». И в другом стихотворении о Несебыре: « А на рыжей черепице виноградная заря перекрашивает шпицы и кирпич монастыря ». Ленинград вообще показался поэту каким-то единым храмом, « квинтэссенцией веков », « сном немых кариатид », и здесь ему даже понадобилась помощь великого петербуржца Осипа Мандельштама… В Лейпциге главной оказалась церковь Святого Фомы, но уже не как памятник вечности, а как старинный органный зал, где кантор, сам Бах, играет поэту «Бранденбургские концерты»: « Храни же нас, кантор из церкви Святого Фомы, и длись этот холод, так странно бегущий по коже ».
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу