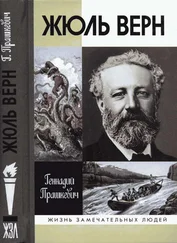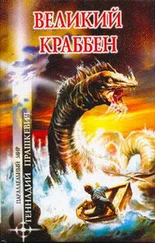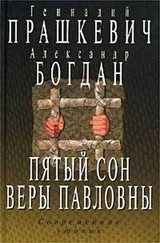И пытаясь молчать,
забывая себя,
я боялся терять
не миры, а тебя…
7
Стало далеким
вчера еще близкое,
снова – дороги,
а сосны огрызками
встали по кругу,
смеются:
«Гони!» —
в пыльную вьюгу,
в седые дожди.
Чтобы в смятенье
по вымершим станциям
прыгали тени:
останься…
останься…
Поздно!
Ни в чем оправданий не надо.
Стоит ли снова дороги мостить
если за каждой плетеной оградой —
только бы жить?…
8
…убегаю,
и вправду
вижу – иные летят на меня
горы,
откосы,
леса,
полустанки
и – поезда.
Сквозь глухую мглу
в небо вперяю прожектора глаз.
«Как там у вас?» —
грохочу по мосту.
Эхо в ответ:
«А у вас? А у вас?»
Дальше!
Все дальше! —
Сибирь за спиной.
Горы маячат зеленой стеной.
О, как спешу,
ухожу на пределе
в долгую мглу
трехминутных тоннелей.
С юрким грузином
под лязг бытия
жуем апельсины,
глотаем сопя.
Ничего на свете нет,
ночи, и дорога.
За окном —
тьма и свет,
смешанные строго…
9
Но к черту боль ненужных откровений,
я обернуться не хотел назад.
Дожди, тоска, тяжелые ступени,
и сквозь дожди —
осенний Ленинград.
С Московского такси бежит, как такса,
и мною счетчик снова пущен в рост.
Метался дождь —
измучившийся Надсон,
и я – один.
Нева.
Литейный мост.
Спокоен сон ночных кариатид —
безмолвное немое исступленье.
Окраина империи, гранит,
дождливое немое искупленье.
Не ночь, а квинтэссенция веков,
тяжелая, как зло и ревность мавра.
Лежит Нева меж плоских берегов
чешуйчатою шкурой динозавра.
Быть может, этим бредил Мандельштам
и, отрицая исступленье ночи,
пел гимны исчезающим вещам
уже за то, что время их источит.
И на Литейном, уставая ждать,
я проклинал себя под ветром грубым
за то, что я руки твои не сумел удержать,
за то, что я предал соленые нежные губы…
10
Знаю, где-то позади
могут люди веселиться:
дескать, что ему? – гони! —
но на это стоит злиться.
Ведь покой мной не презрен,
а летящая гроза —
не на жизнь,
но все же плен,
те же самые глаза,
где, оставив часть души,
я опять в тебя поверил
и в ночных кострах сушил
слезы прожитых поверий.
Как же ты могла уйти
в непонятный долгий вечер,
если все мои пути
приводили к этой встрече?
Ведь отчаявшись, кляня,
всем, чем можно было клясться,
ты бежала от меня,
чтобы снова возвращаться…
11
Как пилигрим, я шел в святых местах.
Клубился дым на выжженных кустах.
Неосторожно таял у ресниц.
Был сложен мир закатов и зарниц.
Не по стихам – по руслам древних лет,
по деревням элегией телег
тащилась боль, ее я превозмог.
Лишь исподволь смеялся темный Бог.
Я не один бывал в его плену
среди картин, распахнутых во тьму.
Но я не так играл своей судьбой:
я не был слаб наедине с тобой.
Ведь не вином нам нежность заменять.
Нам о земном блаженстве вспоминать.
Уральский пояс, дымное лицо,
и поезд – обручальное кольцо…
12
И все-таки, мы были, были !
И мы хотели быть и сметь !
Теряли, плакали, любили
не для того, чтобы стареть, —
а чтобы смыть слезами плесень
годами копленных обид,
что так вплеталась в ритмы песен,
в любовь и ненависть молитв;
и чтобы чувствовать последний
порыв, сминающий цветы…
Смотри,
как нежно и бесследно
под небом таем
я и ты.
1961–1962
* * *
Черным и белым
написана жизнь моя.
Черным по белому
написана жизнь моя.
Черные буквы,
бумага бела, как мел.
Иду переулками
незавершенных дел.
Будто деревья
желания вознеслись.
Если ты первый,
ты даже падаешь ввысь.
Но это снаружи —
тени как на Луне.
Был тебе нужен.
Тонул. И горел в огне.
Было добро, что
похоже больше на зло.
Не было почты.
Ломалось в пути весло.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу