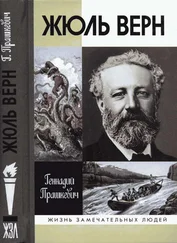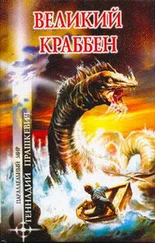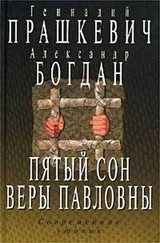Зачем-то элефанты
стоят в аллее бусой.
Дымы висят, как банты,
и фонари – как бусы.
Еркектер туалети
и айелдыр.
Немного же на свете
подобных дыр.
Камыш,
сухая кашка, —
кого пасти?
Любезная казашка,
меня прости.
Сквозь свет, столоверчение,
сквозь дым и чад,
меня как бы в свечение
уже кричат.
И тонкою синицею
Свисток в пути:
«Оставь меня, провинция!
Не дай уйти!»
Евгению Любину
Дым, как нежные молоки.
Слева, справа – клубы дыма.
Добродетель и пороки
рушатся неудержимо.
И в заката пляске рыжей,
все мы – жертвы на гарроте.
Боже, дай мне силу выжить
на последнем повороте!
Не вещественным составом,
в тигле выплавленном плотно,
а божественным уставом,
выплеснутым на полотна,
пламенем под эти крыши,
криком, не умершим в гроте.
Боже, дай мне силу выжить
на последнем повороте!
Что мне вечные вопросы,
если смерть дается даром?
Вот уже и нас выносит
в мир, плюющийся угаром.
И бездумно вечность нижет
дни, тасуя их в колоде.
Боже, дай мне силу выжить
На последнем повороте!
1965–2007
Мне повезло: я знаю озаренье
не понаслышке. Океаном света
меня кружило по земному шару,
я сравнивал размытые хребты
зеленых Альп с хребтами Удокана,
дышал софийской ветреной сиренью,
любил в Берлине
и любил в Москве.
Я не был обречен на пораженье,
но знаю, я чего-то не увидел,
не понял, не нашел. Но точно так же
я знаю: я был добр, и я делился
с друзьями хлебом, нежностью, удачей,
а если нищ был —
запахом цветка…
И колокол ударил над Сандански —
над долгой, темной, пасмурной границей,
над Спартаком, родившимся в Сандански,
над диким лавром, выросшим в Сандански,
и распахнув окно в неясный, сонный,
нежнейший дождь,
я вдруг услышал ночь.
И эта ночь вопросы задавала.
«Тебя меняло время?»
«Да, меняло».
«Ты изменяясь – изменял?»
«Бывало».
«А речь друзей? Она тебя спасала?
Она смиряла боль или сомненье,
даря тебе строку стихотворенья»?
Вопросы.
Дождь.
Листва.
Глухая ночь.
Меня меняло время? Да, меняло.
Но время слишком часто изменяло
и мне, и тем, кому хотел помочь.
Родник в пути.
Костер под темным небом.
Я был врагом, но я Иудой не был.
Я жег костры. По долгим рекам плыл.
Ночь.
Эхо
долго
отвечает:
«Был…»
Как странно ощущать себя живущим,
по темным волнам времени плывущим.
Как странно понимать: еще не вечер,
еще над нами звезды, а не свечи.
Как странно видеть тоненький конверт,
в котором запечатана бумажка
все с тем же вариантом:
да и нет.
А ночь твердит:
«Тебя переводили.
Тебя встречали, и тебя любили,
но ты, познавший стыд, любовь и страх,
сумел сказать: даровано бессмертье
не тем, кто угадал судьбу в конверте,
а тем, кто догадался вскрыть конверт
все с тем же вариантом: да и нет ?»
Я закрываю окна. Я беспечен.
Ночь глубока, как был бездонен вечер.
Я пью вино.
Я волен проклинать.
Я волен возвышать и низвергаться,
я волен женских губ и рук касаться,
я о бессмертье не желаю знать.
Да, слово – боль. Да, слово жжет и губит.
Да, слово убивает, режет, рубит.
Но если мне придется выбирать
перед весами: чаша – откровенье,
другая чаша – блеск стихотворенья,
я не сумею,
не смогу солгать.
Я выберу. И выбор будет внятен.
Пройдут года,
деревья упадут,
изменит море берега пустые,
иссохнут реки, и родятся вновь,
мой выбор будет тем же: я искал ,
мне не нужна судьба, что ждет в конверте.
Я столько в этой жизни умирал,
что, кажется, и правда я бессмертен.
1985
* * *
Запятая тайской джонки,
обессмысленный плеск воды.
Солнце – спицами велогонки
прорывает вечерний дым.
Что явилось? Чего не стало?
Будто зайчиком по стене:
если даже этого мало,
то зачем это нужно мне?
И зачем через темноту
эхом дымного соучастья
тлеет крошечное тату
на счастливом твоем запястье?
И дыши или не дыши —
как довериться только звуку?
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу