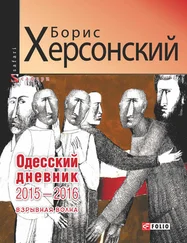Старейшина счет мужикам ведет по головам,
каждый следит за соседом, чтоб ни ногой.
Ибо от предков святых заповедано вам,
чтоб ни бабы своей, ни дочери не видеть нагой.
Чья идет с крестом, предваряя плуг?
Чья надрывает голос, чтоб перепеть подруг?
Чья размахивает кадилом, не хуже, чем дьякон Трофим,
чья размахивает руками, что крыльями серафим?
Ох, помилуй нас, святый Лавр, огради нас, заступник Флор,
сохраните скотинку нашу, мы вам свечку зажжем!
А коровий мор ухмыляется из-за гор,
любуется наготой деревенских румяных жен,
оценивает девиц, отворачивается от старух,
ничего, думает, побываю у вас в гостях!
А пения мор не слышит – он от рождения глух.
А ноги длинны: борозду перепрыгнуть – пустяк.
"Змей похотливый летает к солдаткам и вдовам…"
Змей похотливый летает к солдаткам и вдовам —
чешуйчатый, страшный, с хвостом полнокровным пудовым,
подлетит к порогу, ударится о порог,
обернется суженым или служивым – эй, женка,
ставь-ка в печь горшок, с едой была напряженка,
то топор варили, то кирзовый сапог.
Привечай муженька, на побывку отпущен к бабе,
подписал приказ генерал в генеральном штабе,
лысый черт в аду иль в раю – милосердный Бог.
И баба ахнет, руками всплеснет, засмеется,
не ждала солдатка, что муж служивый вернется,
ставит в печь горшок, запекает рыбку в пирог.
И всю ночь из хаты – ахи, вскрики и стоны,
и завидуют бабе дородные мужние жены,
при холодных пьяных мужьях изживающие красоту.
Разгулялась, думают бабы, наша товарка,
утром стирка да песни, днем то жарка, то варка,
в воскресенье идет к обедне – но не подходит к кресту,
не причастится, иконку не поцелует.
Поп говорит: видно, змей похотливый балует,
слышал я про такое, а сам увидел впервой.
Ничего, на Страстной управлюсь с этой бедою,
проберусь к ней в хату, окроплю святою водою —
и вынесет змея вперед ногами, назад головой.
Одного боюсь, только сказать не смею:
будет солдатка плакать, сохнуть по адскому змею,
слезы лить ручьями, ждать весточки и смотреть
в окошко – не летит ли родной, крылатый,
шебутной, страстно-огненный змей проклятый,
дров нарубить, печь растопить, баньку согреть.
В общем, жить без гнусного змея бабе несладко.
Не спит солдатка, под иконой горит лампадка,
в хате холод просторен, душевный холод – тесней.
Так что шел бы ты, попик, с водицей своей волшебной,
против беса – могучей, против хвори – целебной,
против бабы – бессильной: ничего не поделать с ней.
"Не вопрошал я, други, никогда…"
Не вопрошал я, други, никогда,
куда златые юности года —
не удалились, проще – подевались,
поскольку без ответа знал – куда.
Мы жили хуже, проще одевались
и чаще пламенели от стыда.
Я возрастал в глухие времена,
когда взошли крамолы семена,
когда строка "Купи себе на ужин
какого-нибудь сладкого вина"
казалась нам шедевром и к тому же
инструкцией, которой вся страна
по выходным свободно подчинялась,
частушки пела, без толку слонялась,
наутро помирала с бодуна.
Невыносимый равномерный быт.
Как вспомню – вздрогну. До сих пор знобит.
Тетрадки в клетку для морского боя.
Двухтрубный: мимо, ранен и убит.
На даче спят. И мерный шум прибоя
доносится от дальних пляжных плит.
Два катера к последнему причалу
плывут, чтобы вернуться вновь к началу.
Следит за капитаном замполит.
Нам не дадут, а нам самим не взять.
На те же грабли наступать опять.
И вновь на лбу синяк – на том же месте.
И память глохнет, обращаясь вспять.
Пятак, на счастье запеченный в тесте,
ломает зуб. Стекает струйкой вялой
по подбородку кровь – полоской алой.
Охота лечь. Жаль, что потом не встать.
"Зашла в предбанник, разделася догола…"
Зашла в предбанник, разделася догола,
потом в парилку, на полку, что курица на насест.
Сидят, потеют белые бабьи тела,
хлещут веничком, не боятся, что Банник съест.
А не съест, так запарит до смерти или угар
напустит – выйдешь чиста, но жива едва.
Банный Хозяин весь шерстяной, высушен, стар,
голова на шее – как редька, борода – что ботва.
Он всех вас, скромниц, видал-перевидал,
и все мало ему, все смотрит несытый глаз.
Мужик так не глядит, но мальчик, который мал,
смотрит именно так, как будто бы в первый раз.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу

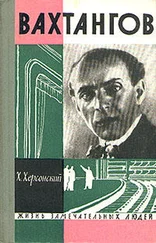

![Хрисанф Херсонский - Вахтангов [1-е издание]](/books/206437/hrisanf-hersonskij-vahtangov-1-e-izdanie-thumb.webp)