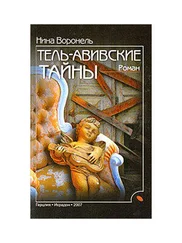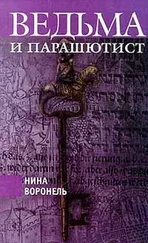Мой апрель притворялся покладистым,
Весь в цветах выползал из травы,
Но стрелки в бородищах окладистых
Встали в башнях его смотровых.
Притворялся он другом в ошейнике,
Псом доверчивым на поводке,
Но при этом приклады ружейные
Пристывали к холодной щеке.
И, прикинувшись шелковой ниткою,
Он ужом за иглою вился,
Но таращились жерла зенитные
В голубые его небеса.
Он хотел быть сердечным поверенным,
Он при всех мне коленки лизал, —
Только я обреченно не верила
Ни признаньям его, ни слезам.
Я предвидела, как это будет,
Завереньям его вопреки,
Как за окнами грянут орудия
И ударят из башен стрелки.
Как, задохшись в угаре кровавом
И сминая цветы на ходу,
Пробегу я по выжженным травам
И на желтый песок упаду.
1970
Пришла пора прощания с Россией, —
Проиграна игра по всем ходам,
Но я прошу: О, Господи, прости ей
Победный марш по чешским городам!
За череду предательств и насилий,
Заслуженную кару отменя,
Не накажи и сжалься над Россией,
Отторгнутой отныне от меня!
Прошу не потому, что есть прощенье,
Что верю в искупление вины,
А потому, что в скорбный час прощанья
Мне дни ее грядущие видны.
Провижу я награды и расправы,
Провижу призрак плахи и костра,
И мне претит сомнительное право
Играть в овечьем стаде роль козла.
И в ореоле надписей настенных,
В истошных криках: «Слава!» и «Хвала!»
Я выпадаю накипью на стенах
Бурлящего российского котла!
1971
Кофе, пустой болтовней и салатом
Весь этот день был забит до отказа:
Щедро отмеренный поздним закатом
Был этот день мне как милость оказан.
Весь этот день с суетой за обедом
Был незаслуженно щедрой подачкой, —
Я лишь потом догадалась об этом
Среди разбросанной утвари дачной.
Я лишь потом по случайным приметам,
По пустякам догадалась о многом:
Был этот день мне прощальным приветом
Будто бы мир не лежал за порогом.
Будто бы не было слежек и ссылок,
И санитаров из желтого дома,
И запрещенных тюремных посылок,
И про евреев ни слова худого.
Будто беды мы все время не ждали,
Будто опять не захлопнулась клетка, —
Так в этот день умывался дождями
Милый мне лес в предвкушении лета!
Так мне березы кивали повинно,
Так покаянно прощенья просили,
Будто бы Родиной, а не Чужбиной,
Снова могла обернуться Россия!
1971
В неурожайном, високосном, роковом
Ищу приюта, как бездомная собака,
А за стеной интеллигентный разговор
О самиздате и о музыке до Баха.
А за стеной уже построена шкала
По черным спискам от Христа до Робеспьера,
И несмолкаемо во все колокола
Звонят деревья облетающего сквера.
Ах, в этот черный, високосный, роковой
Заприте дверь свою и окна занавесьте, —
Ведь все равно не догадаться, для кого
Осенний благовест несет благие вести.
Ведь все равно не угадать, что суждено,
Не нарушая связи следственно-причинной:
Пусть хоть разлука — не с разрухой заодно,
Пусть хоть разрыв — но лишь концом, а не кончиной!
Пусть расставанье — не враждой и не войной,
Пусть кровь и око — не за кровь и не за око,
Чтобы земля моя, покинутая мной,
Не поплатилась — справедливо и жестоко!
Но не земля на пепелищах, а зола,
Но для амнистий, видно, время не приспело,
И ловко шьются уголовные дела
По черным спискам от Христа до Робеспьера.
Но тверд расчет у орудийного ствола,
Но раскаляется земная атмосфера…
И несмолкаемо во все колокола
Звонят деревья облетающего сквера…
Октябрь-декабрь 1972
Монотонно, запасясь терпеньем,
Оставляя город под собой,
Я всхожу по каменным ступеням
Вверх, на Исаакьевский собор.
Подо мной парадом юбилеев
Изукрашен мрамор колоннад,
В доме за углом, где жил Рылеев,
Деньги под залог дает ломбард.
Возле стен, где рушились святыни,
Где гудел набат бунтовщиков,
Бережно хранятся в нафталине
Вереницы шуб и пиджаков.
В комнате, где крестным целованьем
Отвергалась истинность присяг,
Нежится каракуль в целлофане
И часы безмолвные висят.
За стеклом хранятся самоцветы
И хрусталь упрятан под замок,
Будто под огромные проценты
Отдана история в залог.
Читать дальше