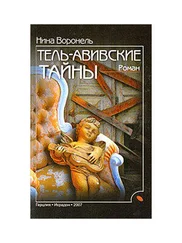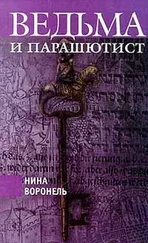Или тем, что на харче казенном
Мы всю жизнь провели под судом,
И что нас заклеймили позором
В сорок первом и тридцать седьмом.
И не стоит, трезвоня в набаты,
Из предателей делать святых, —
Потому что мы все виноваты
В сорок первых и в тридцать седьмых.
1967
Поэты тех, военных, лет
Навек отравлены войной:
Они похожи на калек,
Контуженных взрывной волной,
Они похожи на собак,
Заученно берущих след,
И не похожи на себя,
А лишь на отсвет этих лет.
Им не положено лица,
У них на всех судьба одна:
На их читателя с листа
Все тридцать лет глядит война.
Там рвутся мины между строк
И в щепу рушат блиндажи,
Там вера на короткий срок
И правота без тени лжи.
Там не услышать тишины,
Которой мирный мир богат, —
Они навек оглушены
Тяжелым ревом канонад.
Их искалечила война,
И нету в этом их вины,
Что вписаны их имена
В печальный список жертв войны!
1968
* * *
Суд современников не значит ни черта
И суд потомков ни черта не значит,
Но где-то составляются счета
На уровне поставленной задачи,
И временем подведена черта,
Где можно получить со славы сдачу.
Ты подойдешь к окошечку кассира,
Распишешься в гроссбухе голубом,
И встанешь где-то возле Льва Кассиля
Веночек расправляя надо лбом.
Ты сохранишь спокойствие наружно,
И станешь в строй, гордыню истребя,
Хоть со стесненным сердцем обнаружишь
Толпу счастливцев впереди себя.
Но вдруг в испуге задрожишь коленкой,
Когда толпа расступится вокруг
И за ноги протащат Евтушенко,
И бросят в прорву через черный люк!
1967
Глупая Эльза в день своей свадьбы спустилась в погреб за пивом и увидела там топор на стене. Она горько заплакала при мысли, что топор может когда-нибудь упасть и убить ее будущего сына.
Я — глупая Эльза, и страх мой предметен,
Как старый портрет в лакированной раме,
И все топоры у меня на примете
Под инвентарными номерами.
А мутное солнце в пыли над Донецком
Ничуть не стремится склониться к закату:
Прикрыть бы — да нечем, сбежать бы — да не с кем,
И рай не устроен нигде по заказу.
Взвывают сирены, звонят телефоны,
И воздух больничный карболкой пропитан,
И в грязное небо торчат терриконы,
Подобно египетским пирамидам.
Я — глупая Эльза, и страх мой невидан,
Он двадцать раз на день меняет личины,
Вставляя все буквы от всех алфавитов
В подынтегральные величины.
Мой день, расчлененный на чет и на нечет,
Часами торчит у прокопченных зданий, ( надо бы : прокопчённых)
Мой день промелькнет — и похвастаться нечем,
И ночь не сулит никаких оправданий.
Мой день, всем богам отслуживши обедни,
Предложит десяток решений негодных,
А вечер придумает новые бредни,
Чтоб разом забыть о реальных невзгодах.
Я — глупая Эльза, мой страх — это крепость,
Под сенью его даже разум не страшен:
Там верная глупость, простая, как репа,
И денно, и нощно не дремлет на страже.
1966–1967
Меня весь август лихорадило,
Весь август в крайности бросало,
А рядом ликовало радио
И лихо войнами бряцало.
А в мире спорили ученые,
А в мире землю брали с бою,
А в мире белые и черные
Все помешались на футболе.
Проникновенный голос диктора
Кончал и начинал сначала, ( может быть : Смолкал)
А я не слышала, не видела
И ничего не замечала.
Я, подгоняемая страхами,
Неслась, как лошадь призовая,
И вещи от меня шарахались,
Меня во мне не признавая.
Мой стол под пальцами корежило,
Мое перо из рук валилось,
И зеркала кривыми рожами
Выказывали мне немилость.
И было мне плевать решительно
На дыры в мировом цементе,
И был мой август разрушительней
Землетрясения в Ташкенте.
1967–1968
Базар был вовсе не библейский:
Был крытый рынок в землю врыт,
И рдели редкие редиски
Среди бочонков и корыт.
От свеклы и от связок лука
Я, бережа последний грош,
Шла под развесистую клюкву,
Где громоздились груды груш,
Где хищно скалились гранаты,
Где ярлыки нелепых цен
В глазах взрывались, как гранаты,
Вводя имущественный ценз.
Читать дальше