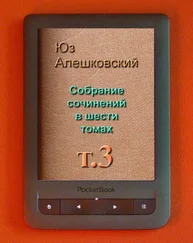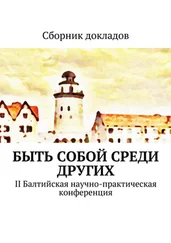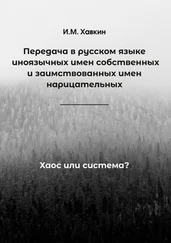Тишина под землей тоже серая,
жизнь пуглива, как серая мышь,
и в добро я теперь не верую —
зло, что царствует, разве затмишь?
Мне упорно твердят, что, мол, болен я,
потому и судим не судом,
потому недостоин, мол, воли я,
и лечить меня надо трудом.
На сегодня полжизни пройдено,
а свобода моя не видна…
Ах ты, родина, родина, родина,
чем, родимая, ты-то больна?
Баллада об ушедшем
Лагерная легенда
Во глубине сибирских руд
Храните гордое терпенье…
А. С. Пушкин
Изучили мы здесь без труда
арифметику школьной программы:
мы сидим и считаем года,
а конец далеко за горами!
Мы считаем опять и опять:
отсидел я пока лишь три года,
но всего-то, всего — двадцать пять!
Мне почти что не светит свобода…
Даже думать о том нелегко.
Вот и друг мой, земляк мой Григорий,
вижу, мыслями он далеко,
и глаза его — в горьком укоре.
Каждый раз, как ложимся мы спать,
разговор он заводит не новый:
— Кто мне снимет мои двадцать пять?
Кто поверит, что мы — невиновны?
На морозе не дремлет конвой,
на дворе — непроглядная вьюга.
Под бушлатом одним с головой
кое-как согреваем друг друга.
И бормочет Григорий во сне,
обращаясь к безжалостным мордам:
— Никакого терпенья во мне!
Не могу я — «в терпении гордом!».
А наутро грохочут замки,
надзиратель веселый и ладный
нам кричит:
— Торопись, мужики!
Похлебайте горячей баланды!
На разводе гудит голова,
ветер мчит по всему околотку,
загоняет обратно слова
конвоиру в раскрытую глотку.
— Заключенные! — выдавить звук
не хватило усердия злого,
только взмахи неистовых рук,—
Шаг направо!.. — а дальше — ни слова.
Взявшись под руки, двинулись в путь.
Мы восходим на снежное взгорье.
— Друг, пойми ты и не обессудь… —
говорит мне внезапно Григорий.
— Что случилось? — с тревогой к нему.
Друг на друга украдкой, как воры,
мы глядим — ничего не пойму!
Но рычит конвоир:
— Разговор-ры!
Мы пришли. Как бы нам не упасть.
Ветер валит овчарку на сворке —
надрывается хриплая пасть.
Конвоиры считают пятерки.
Забираемся в шахтную клеть,
оттираем носы друг у друга,
что успели уже побелеть.
Ах ты, вьюга, проклятая вьюга!
Двести семьдесят метров пути —
ветра нет, здесь теплее и тише.
— Ты прости меня, друг мой, прости! —
вырывается с болью у Гриши.
— В чем простить? — Я замедлил шаги.
Мы — в широком и светлом квершлаге.
Гриша шепчет:
— Спаси! Помоги!
Не хочу возвращаться я в лагерь.
Я карбидку роняю из рук.
Ничего не пойму, словно пень я…
— Я не выйду из шахты, мой друг,
у меня иссякает терпенье!..
Расстаюсь я с тобою навек,
до конца мне осталось недолго.
Посчитают, что это — побег,
я же в шахте, как в сене иголка.
Ты за это меня не вини.
От охранников кану я в воду
и хотя бы на сутки одни
испытаю былую свободу!
И, притронувшись теплой щекой,
прочь по штреку подался Григорий,
обернулся, махнул мне рукой
и в тумане рассеялся вскоре…
Я на скрепере мыкал беду.
Мне сигналили электровозы,
я всю смену давал им руду,
вытирая незваные слезы.
Эх ты, Гриша! Ну, как же ты смог
так ужасно и зло начудесить?
Надзиратели валятся с ног —
всё искали тебя целый месяц!
Всё свирепее с часу на час
становились от этих усилий,
и шмонали с пристрастием нас,
чтобы в шахту мы хлеб не носили.
Я не раз, твой кисет теребя,
размышлял над твоею судьбою
и в надежде, что встречу тебя,
звал тебя в отдаленном забое…
С той поры пролетел целый год…
Только выйдем из зоны за вахту —
мне покоя мой друг не дает,
Я решился облазить всю шахту.
Да и в лагере слух пробежал,
что видали не раз пред собою,
как неясно, тревожно дрожал
огонек в отдаленном забое.
…Я узнал его издалека,
К валуну я большому прижался,
наблюдая полет огонька,
что тихонько ко мне приближался.
Словно камень, я сам отвердел,
с места сдвинуться сделал попытку,
но тотчас же во тьме разглядел
силуэт человека, карбидку…
Читать дальше