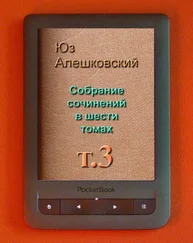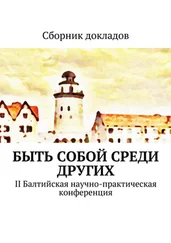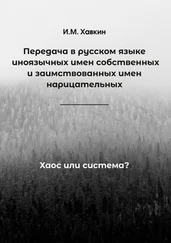В грандиозных отсветах пожара
новый день над городом встает.
Что Земля имеет форму шара —
в это он поверить не дает.
Как мазки гигантского этюда,
это чудо не постичь умом.
Силуэт двугорбого верблюда
над горбатым высится холмом.
«Выходишь из клети — минуту постой…»
Выходишь из клети — минуту постой
с шахтерской уставшей оравой,
прочувствуй, в какой ароматный настой
степные сливаются травы.
Ты целую смену ворочал руду,
а это, увы, не игрушки.
Но ради тебя зажигают звезду
на самом копре, на макушке.
А в шахте руды — целый край непочат,
и хватит ее на два срока.
И с болью глядишь ты на вольных девчат —
еще тебе эта морока!
Лишен ты всего: и желаний, и прав,
но вечно пребудет с тобою
вот этот подарок — дыхание трав,
когда ты идешь из забоя.
Я познанью годы посвятил,
проникал я во вселенский разум,
в суть вещей, в движение светил,
вопреки евангельским рассказам.
Все своею щупал я рукой,
сказки с малолетства презирая,
и отверг я мелочный покой
и блаженство в тихой сени рая.
Смехом саркастическим я стер
ложь и торжество вероучений.
Я готов за это на костер —
от меня не ждите отречений!
И когда костер мой будет в ночь
разожжен рукою изувера —
это значит: извергам невмочь!
Это значит: зашаталась вера!
На зубах, как в жерновах, песок.
Он без спроса лезет в нос и в уши,
хлещет по щекам и бьет в висок.
Глохнет крик: «Спасите наши души!»
За три метра не видать ни зги,
словно смерть пришла с доставкой на дом.
В сто извилин корчатся мозги
оттого, что зло смешалось с адом.
Ветер здесь не по-земному лют —
мертвенный, космический, иссохший.
Помня нас, в России слезы льют,
словно по безвременно усопшим…
Ни небес, ни суши, ни морей.
Наступает злое отупенье
и срывает жизни с якорей,
рвет канаты адского терпенья.
Так бушует злобный ураган,
все круша, корежа и мешая.
Но хранит нас вечно Джезказган,
над любой невзгодой возвышая.
Стало нынче в цене
раздвоение мнений:
побывал на войне —
обвинили в измене.
От родных отлучен,
зэком стал я матерым.
Мне б работать врачом —
заставляют шахтером.
Брошен в шахту я тут
под надзор вертухая.
Подневолен мой труд,
перспектива — плохая.
Приобщился к труду,
работягой стал истым,
добываю руду —
обзывают фашистом.
Вместо плана — туфта,
мало хлебова в миске,
суета-маета,
бригадира приписки.
Не по славным делам
шахта наша в почете —
выполняется план
регулярно в отчете.
Не болит голова
устранять неполадки.
Вам ведь всё — трын-трава,
с нас и взятки-то гладки.
«Под ногами — трава душистая…»
Под ногами — трава душистая,
а вокруг — необъятный мир.
Что с того, что зовет фашистами
нас нахмуренный конвоир?
Отгорожены мы от родины,
от родимой своей земли,
нас изменниками и отродьями
прокураторы нарекли.
Конвоирами опекаемы,
мы не скидываем ярма,
и работаем тут за пайку мы,
а по совести — задарма.
Времена над нами недужные —
хуже мора или войны,
нам внушают, что мы — ненужные,
только так ли мы не нужны?
Строим тут хорошо ли, плохо ли —
кто осмелится нас воспеть?
Мы такой комбинат отгрохали,
мы стране подарили медь.
«В газетах о нас не писали…»
В газетах о нас не писали,
молчали о нас неспроста,
и тайно в прорывы бросали,
в нелегкие эти места.
Но все же не духами строится
индустрии важный редут —
в газете статья: комсомольцы
ударную стройку ведут.
Но разум кипит возмущенный!
И в этой пустынной дыре
воздвиг монумент заключенный,
слова наварив на копре:
«Мы, зэки, вступили на вахту
и мыкали эту беду.
Мы, зэки, построили шахту
в таком-то треклятом году».
«В то, что радуга есть, не верую…»
В то, что радуга есть, не верую.
Мне — проклятьем подземный клад.
Всё вокруг меня серое-серое:
серый камень и серый бушлат.
Читать дальше