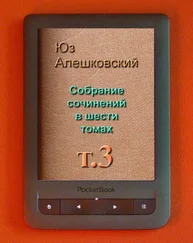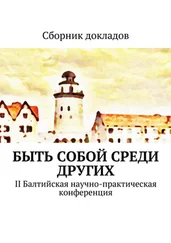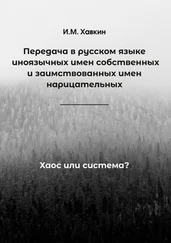— О господа! — Японец поклонился. —
Прошу вас, выходите все наверх. —
Он был наслышан о волне репрессий,
о том, что в этой полумертвой массе,
обросшей бородами, исхудавшей
от голода и от морской болезни,
завшивевшей, цинготной и угрюмой —
комбриги и комкоры могут быть,
писатели, артисты, профессура,
чекисты, инженеры и врачи.
— Прошу вас, господа, вы все свободны!
В ответ из трюма:
— Заберите трупы!
Сейчас наверх мы вышлем делегатов
от уголовников и от Ка Эр.
Все не пойдут — от голода слабы…
И вот возник на палубе десяток
теней, едва похожих на людей,
заросших и трясущихся в ознобе,
худых и изможденных, словно смерть.
Японец поклонился и сказал:
— Вы можете уехать в Аргентину,
в Америку, в Канаду, господа!
Вас, как скотину, гонят на убой.
Сейчас мы капитана арестуем,
даем вам офицера и охрану —
плывите по морям, куда хотите!
До Гонолулу будем провожать!
Какой-то урка тоже поклонился:
— А черта ль нам в Америку мотать?
Чего мы в той Канаде не видали?
Да там своих таких «людей» хватает!
Пусть контрики плывут! Их забирайте!
— О, кажется, вы — вор? Таких не надо!
Что скажут остальные господа?
— Простите нас, мы тоже не поедем…
— Но почему?! Ведь вам один конец!
— Да, судьбы наши черные, конечно…
Виновными себя мы не считаем,
но верим: наверху, там, разберутся!
Надеяться на то не перестали —
товарищ Сталин обо веем узнает
и рано или поздно тех накажет,
кто эту к нам жестокость проявил!
За добрые намеренья — спасибо!
Но, господин японский офицер,
мы — коммунисты все и патриоты!
И просим вас: пустите в Магадан!
Японец постоял еще минуту,
потом склонился, снова козырнул
и, сгорбленный, поплелся тихо к трапу.
А через сутки судно швартовалось
в порту у мрачных сопок Магадана.
И прибыло на палубу начальство,
увидело конвойных без винтовок
и, выслушав подробнейший рапорт
начальника конвоя, капитана,
велело всем сойти на страшный берег.
Наручники им тут же нацепили.
А заключенных, что и полагалось,
пытавшихся спектаклем на борту
о мнимой невиновности своей
втереть очки вождю, советской власти, —
с удвоенной охраной повели
в ближайший магаданский распредлагерь.
Семью он покинул,
ушел воевать,
чтоб землю в Гренаде
крестьянам отдать.
Вернулся из тех
романтических мест
и вскоре, бедняга,
попал под арест.
Спросил его опер:
— Скажи, на хрена
сдалась тебе, как ее,
эта Грена?
Бледнел он, как снег,
и краснел, как пион,
а опер орал:
— Ты немецкий шпион!
Судьбы колесо
чуть не сбило с ума.
Решило ОСО:
десять лет, Колыма.
Он мыл золотишко,
слезы не тая,
и пел, как мальчишка:
— Гренада моя!
Почти Эльдорадо —
тут золота тьма.
Гренада, Гренада,
моя Колыма!
Повыпали зубы
средь каторжной мглы,
и мертвые губы шепнули:
— Колы…
Он — маленький, щуплый, совсем не атлет,
усохший для лагерных брючек,
но держится так, словно блеск эполет
несет на плечах подпоручик.
Нет, он никогда не поплачет в жилет
и прошлым, пожалуй, гордится.
Он был у Шкуро девятнадцати лет
и в дело хоть нынче годится.
— Ну, вот вам, — он молвит, — в гражданской войне
напрасно вы нас победили!
Пускай поделом тут приходится мне,
но вас-то за что посадили?
— Старо, господин подпоручик, старо
все это: «За что вы боролись?»
— Допустим. Конечно, я был у Шкуро,
но вы-то на что напоролись?
Наверно, не скоро я это пойму,
иль все поглупели мы, что ли?
Недавно амнистия вышла ему:
его благородье — на воле!
Когда ж наконец долетит и ко мне
решенье вопроса простого?
Его благородье вернулся к жене —
открытку прислал из Ростова!
Жизнь моя была как на развилке:
впереди — неведенье. И вот,
я — в тюрьме, в свердловской пересылке.
Шел январь, пятидесятый год…
Наш этап готовился: в дорогу.
Для отправки собирали нас
в камере огромной. И с порога
женщин я увидел в первый раз.
Полтора десятка их там было,
женщин-заключенных молодых…
Сердце сразу горестно заныло,
зрелище ударило под дых!
Читать дальше