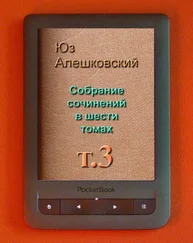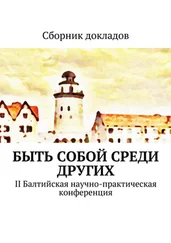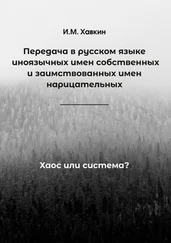Нас увозили.
Слишком
прощания горьки.
И кланялись нам вышками
окраин огоньки.
К Сибири замороженной
тянулись облака.
Ах, песенка дорожная,
острожная
тоска.
Суровый берег Ангары.
Порогов глыбы грубые.
Конвой.
И в тучах мошкары,
голодные, угрюмые,
идем, сцепившись под руки, —
пятерками в ряду.
Собачий лай
и окрики.
И, если упаду,
оставь, земляк, усталого,
двоим не пропадать:
мудра затея Сталина
людей нумеровать.
Но, дотянув под кровлю,
вновь веруешь, что ты,
бесправный, обескровленный
искатель правоты,
опишешь всё в «Прошении»,
оно дойдет…
И вот:
Верховное прощение
в Малаховку вернет,
в тот, всех цветов красивей,
осенне-синий цвет…
Будь проклято всё — синее,
твои глаза…
И — нет!
Не в силах славить палача,
и числиться святым,
и ложь всечасно уличать,
молчать и быть тупым.
Так обретенная честность бьет
по собственным ногам,
и, оборвавшая полет,
нам клетка дорога.
И сладок губящий чифирь,
и зубоскальство злое:
мила нам мерзлая Сибирь
и небо слюдяное.
Мила мечта —
в один из дней
в усы ударит смерть,
и станет чистым мавзолей,
и революционной твердь…
Однако ж надо и дожить.
А в лагерной больнице
есть васильков на грядке нить:
пусть наяву приснится
Малаховка, и синь реки,
и голос —
птиц чудесней…
Но как мечтатели жалки,
когда,
облаяв песню,
пересчитав,
в барак ночной —
под ключ
замкнет
отбой..
Кто сосчитает километры
всех рельс и трасс,
все штабеля и кубометры
открытых глаз…
Хоть с алым чертом на ветрах
рвани, как Фауст,
тебя вернет в больничный хаос
всеобщий страх.
И все ж — рассвет.
Цветов росу
синит свод неба летний…
— А вот и — земляка несут.
— Куда?
— В этап последний…
Что он уносит за собой
в несовершенство шара,
свисая тощей синевой
с объятий санитара,
чуть трогая концом руки
чахоточные васильки…
Беспомощный,
в кальсонах синих,
он сам — как тощий василек.
— Пытался вспомнить имя сына…
— Не смог…
Со щек глубоких — астры жара,
и эти выпученные глаза —
немой вопрос:
«Куда меня несут?»
И шутки — санитара:
«На высший суд…
Где признают
лишь тех,
кто признавался
тут».
Нет! Должен быть
тот — высший суд.
И нам
судить
на нем.
Когда — через тюремный быт —
в небытие
уйдем…
Нет! Все останутся,
кто — здесь
душой воскресли!..
А — если…
Как к дому путь далек…
застынет
над пробитым лбом
небес
огромный
василек.
1952 год. Вихоревка
Пошли от Сталина завхозы
вершить богатствами страны,
но мы признали, что должны
ишачить, как тяжеловозы…
Чтоб шоры скрыли — стыд и страх,
и стали к шпорам — равнодушны,
всегда — широкие в костях,
а главное — вожжам послушны…
А где Руси — лихой рысак,
блистательный — ахалтекинец,
Казбек берущий — кабардинец,
где неоседланный — дончак?..
Иссякли родственные связи
иль в колбасе погребены,
и держатся на коновязи
лишь те, кто конюху верны…
А он им… семя рвет живьем!
Как ослепительно живем.
1952 год
Когда впервые воду глаз
разрушил камень мысли,
и жизнь, очнувшись, понеслась,
как будто крылья выросли,
минуя старческий завет
и девичью сердечность,
рубя коротким словом «нет»
слежавшуюся вечность,
я так затрепетал тогда,
себя узнав до дна:
пусть глаз расплещется вода,
останется Она…
Пусть глаз провалится вода,
встречая вал прибоя:
не стыть нигде и никогда
в душе моей покоя.
Иди, спроси и даль и высь:
виновна ль злоба в том,
что ей малодоступна мысль
«Добро взойдет добром»…
С того и деспоту легко
озлобленными править:
в их души дышла вбить закон,
стравить и окровавить.
И вот, пока я звал добро,
высмеивал свой страх,
хитрейший принял серебро
и указал — где «враг»…
Бесполый народил статью,
размножил цифру ветер,
и кто-то склизкий жизнь мою
уже крестом пометил…
И — с петель дверь, кровит восход,
душа над телом встала.
А судьи кто? А где народ?
В пустынном чреве зала
Читать дальше