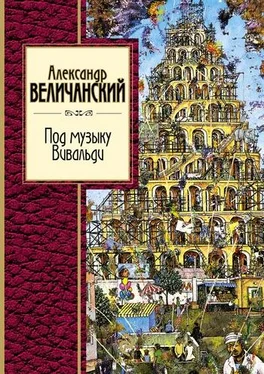Но разве невидали эти
сравнятся с невидалью ТОЙ?
Здесь зимою, куманек,
на вес золота денек,
а уж ночь-то дешева —
еле утра дожила,
но зато с зарею Русь,
как на алых лапках гусь,
колыхается.
Судьба, что колечко —
распаялось только —
станет как литое —
сольется навечно:
кто косою косит,
кто крестами метит,
времечко-то спросит —
извечность ответит.
«Хлебниковская русалка?..»
Хлебниковская русалка? —
нет – та в омуте живет —
наша же – среди болот
выступает, как весталка,
как весталка без хвоста,
ибо торс ее раздвоен,
что не видно нам за слоем
тины – в ней по пояс вся
берегиня наша: на
язве уст – остатки гимна…
Берегиня! берегиня!
сколь по пояс ты стройна.
«Не злорадствуй, милый мой…»
Не злорадствуй, милый мой:
крив рожок, да звук прямой.
Хоть правы твои слова,
но душа твоя крива.
На земле стоит напев,
как высокий шум дерев,
когда ветер или «дух» [24],
заломив им ветви рук,
клонит долу их, а сам
не молится небесам.
«Тот, кто родился в Назарете…»
Тот, кто родился в Назарете,
был тем, чего я не пойму:
все именуется на свете,
но нету имени Ему —
названья есть, но шиты гладью
условности людских словес,
поскольку Он не есть ПОНЯТЬЕ,
а просто нету или есть.
Невеста неневестная,
Господа Бога родшая,
предвечно в мире бывшего,
во тленну плоть сошедшего,
всем людям – Бога сущего,
Себе – Невесте – Господа.
«Сусальна золота сентябрьская гарь…»
Сусальна золота сентябрьская гарь.
Октябрь, заржавело твое злато.
Душа ж до Покрова зеленовата,
как встарь, моя прекрасная, как встарь.
«Лес Тебе, закатно тлея…»
Лес Тебе, закатно тлея,
причастился, чуть дыша,
это кровию Твоею
очищается душа.
Собираются в леса
дерева-единоверцы,
в сердцевине, т. е. в сердце
пепел слов Твоих неся.
Не читайте биографий
бунтарей, вождей, поэтов —
на свой лад неладен всякий —
мрамор сгорбится фигур
столь блестящих; исказится
слава их, и на портретах
чуждо обнажатся лица
под вуалью крокелюр.
Обоюднодесте
распрямленных спин.
«Но диавол есть и
среди вас един», —
так Господь вещал им,
и, потупя зрак, —
«Уж не я ли – диавол», —
в страхе думал всяк.
«Мы внемлем мессы звукам вечным…»
Мы внемлем мессы звукам вечным,
где в каждой ноте пробил час,
но в нас какой-то вихрь заверчен,
и хочется вина и женщин —
святой гармонией увенчан,
а хочется пуститься в пляс.
Удел двоих
любить сквозь грех
сперва на миг,
потом на век —
и вы правы,
когда вдвоем
схватились вы
с небытием.
«Он был невидимо красив…»
Он был невидимо красив,
хотя был палачом (курсив),
и плод познанья надкусив,
не канул в тайнах Леты:
о, нет: доныне не зачах
огонь в слепых его очах,
златые кудри на плечах
лежат, как эполеты.
Он умер, но остался жив,
хотя был палачом (курсив),
к нему, заслышавши призыв,
текут забвенья реки —
не тем красив он и силен,
что златокудр, как ангел он,
а тем, что как слепой закон,
он САМ забыт навеки.
«Мгновений тех без края…»
Мгновений тех без края
святая простота.
И всюду – золотая
вечерняя вода.
Все: небо с голым садом,
нас и проводки нить
вода вечерним златом
готова отразить.
Лес вышел на опушку:
как припозднился май!
Мы слушаем кукушку:
«считай», «считай», «считай».
30.11.1986
«Чем глубже к нему следы…»
Чем глубже к нему следы,
тем лучше в срубе самом:
среди огромной зимы
глубоким он полн теплом.
И тяга печная ввысь
уносит дым сигарет,
слова и песни, и мысль,
невысказанную, нет.
Вот тяга печная, но,
в отличие от земной,
ей в небо нести дано
все то, что стало золой.
««Аминь, аминь, – глаголит, – впредь…»
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу