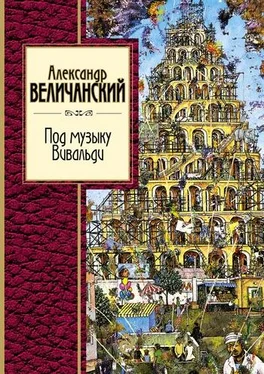«Ах, Сирах, впрямь не жаль ведь…»
Ах, Сирах, впрямь не жаль ведь
нам заклинателя,
когда его ужалит
ослушница-змея —
смеется созерцатель,
а я своей стезей
иду, как заклинатель,
ужаленный змеей.
Я три года жил среди
Беловежской пущи
и средь окружающей
тосковал среды —
даже чем красивей лес,
поляна ли – тем пуще —
об огромном городе,
где-то впереди.
Никакой не урбанист,
но тем ведь и печальней —
без теорий – просто так
тосковать во сне,
на проклятом ли яву
хоть по Ново-Песчаной
иль по Горьковско-Тверской
гранитной кривизне.
Нагляделся я болот
под Пинском – это доля,
это рок, а не земля
и не водоем.
Я согласен с куликом,
и не напрасно поле
названо Кул́иковым, —
за ним же отчий дом.
Нет, березок лапать мы
напоказ не будем,
свою дурь исконную
пробивать в закон —
кто по городам скучал
сильнее, чем по людям,
без которых город сам
пусть и незнаком.
«Как объятые счастьем двое…»
Как объятые счастьем двое
вдруг объятыми всей вселенной
ощущают себя на миг лишь,
но за миг этот жизни ложь
всю отдашь той же необъятной,
той же длительной и нетленной
ледяной пустоте, к которой
в одиночку всю жизнь идешь.
Не в новом районе,
не в дальнем краю
таежном – нет, я
заблудился в раю,
где дерево жизни
средь чащи в ночи
от древа познанья
поди отличи.
Ода на сорокалетие возлюбленного брата
«И навсегда простились с небытьем».
А. Ахматова
Чрез изуверство иль веру, но люди не зря
братства отвека взыскуют, взыскуя добра:
кровью Господней иль ближнего кровью хотя б
кровно по-братски навеки связаться хотят.
Несть же замены насущнейшей этой нужде,
ибо без братства живут они в кровной вражде,
ибо ничто не связует их крепче, родней:
дети уходят из лона своих матерей;
Авель Адамом и Каин Адамом рожден —
рознь породивши, Адам понимает: не он
создал их, чуя в жене сокровенный обман,
что за порок первородно ему богодан.
Сводится к братству людская тоска по родству:
хочется сыну и хочется старцу-отцу
либо сынами единого Господа стать,
либо, сыскав Богоматерь (единую мать),
чистого братства безгрешно достичь. И не зря:
братству земному основа – та кровь, что земля
первый раз выпила из человеческих ран…
Братство земное стоит на крови, словно храм.
Пусть же любовь от себя укрывается в скит.
Дружеством Иов по горло коростное сыт.
Узами братства да свяжем развал наших дней —
связи отвека отраднее нет и трудней.
Брат, сорок лет, как мы братья – за этот же срок
пустошь свою Моисей, наконец, пересек.
И оттого ль, что запомнил младенчески я
несколько лет твоего с нами небытия,
я понимаю яснее, за что же мы пьем
в день твоего расставанья с небытием:
празднуем мы бесконечной пустыни конец,
а не начало слепое. Не так ли, отец? —
вечным молчаньем слова мои днесь подтверди,
сына поздравь с мирозданием – алаверды.
«Три раза ты приснилась мне, но первый раз коварно…»
Три раза ты приснилась мне, но первый раз коварно:
когда к смеющейся тебе я было прикоснулся,
как рыба, обернулась ты моей подружкой прежней,
и смех твой простодушный стал ее злорадным смехом.
Когда же ты решилась вновь присниться мне, я было
уже смеющейся тебя коснулся, но внезапно
прозрел и вынырнул из сна, как из пучины – рыба,
но долго слышался в ночи твой смех, как день, невинный.
Когда ж ты в третий раз пришла тревожить сон мой грешный,
и я смеющейся тебя не «было», а коснулся,
не тело обнял я, а смех бесплотный и беззлобный,
устами тронув не уста – какой-то детский лепет.
Про одиночество я врал
и самому себе скорее —
я – человек, и слишком мал
для одиночества – имея
друзей и братьев, Галатею,
был одинок я не вполне,
но я был одинок пред НЕЮ:
со смертью всяк наедине.
Тогда ЕДИНСТВОМ называл
я одиночество кичливо.
Но одиночество – развал,
предательство, забвенье, либо
такое царственное диво,
какое не под силу мне.
Передо мною кружка пива:
со смертью всяк наедине.
Но я тогда от счастья вел
счет одиночеству. В итоге
его и вправду я обрел,
но только как иголку в стоге.
А мне б рассчитывать о Боге,
которого я был извне…
Снег отрясая на пороге,
со смертью всяк наедине.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу