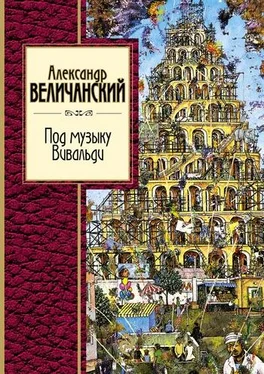Вот снег тот вправду одинок.
Но мы-то здесь, но мы-то дома.
За нами щелкнувший замок
звучит, как музыка, без взлома.
И мы беседуем. Истома
недугов, бед – души на дне.
И там же жмется аксиома:
со смертью всяк наедине.
Зима все злее, видит Бог,
зима – мерзавка, недотрога.
И мы сошлись на огонек,
диковинный в ночи – нас много,
но одиноки мы убого
и в единении, зане
без одиночества – без Бога —
со смертью всяк наедине.
Не в высях простертых,
а где-то у нас
как прежде, растет он,
растет про запас —
пусть гол и безлюден —
не там и не тут —
но ангелы лютые
рай стерегут.
Все движения природы
столь незримы – ни частиц
мы не видим, ни микробы
нам своих не кажут лиц.
Но гляди – девица… Мы с ней
чуть знакомы, но ей-ей —
неподвижнейшие мысли —
под игрой ее кудрей.
«Хоть сыплется струйкой…»
Хоть сыплется струйкой
точнейший песок,
хоть станет разлукой
и мелкий поток,
о коем Державин
или Гераклит,
когда жизни жаль им,
толкуют… Но влит
в движенье первичный
покой. И извне,
но вечность статичной
мерещится мне.
«Грамотность нужна нам, блядь…»
Грамотность нужна нам, блядь,
поголовная, как стадо,
чтобы всякий мог, коль надо,
но донос, а написать.
Грамотность нужна нам, блядь,
вездесущая, как атом,
чтоб не Пушкина – куда там,
но повестку прочитать.
«Не город мертвых – град кумиров…»
Не город мертвых – град кумиров,
град памятников – их мундиров,
сапог испанских, галифе,
шинелей длинных и т. д.
Здесь конь Калигулы отлитым
по пьедесталу бьет копытом,
град указующих десниц,
гранитных брюк, жилетов, лиц.
В порядке наших дел амурных,
как мусор в столь помпезных урнах,
давай же встретимся с тобой,
где всенароднейший герой
окутан бранной славой,
стоит палач безглавый.
«Да, мы не верим в приведенья…»
Да, мы не верим в приведенья —
невидимы – но обретясь
в незримом мире, в запредельном
они-то сами верят в нас?
«Любовь и ненависть, позор, добро и зло…»
Любовь и ненависть, позор, добро и зло —
что было, то как раз и не прошло,
а то, что не бывало,
как раз и миновало,
как холода не ставшее тепло.
Заворожено, чуть дыша,
мне видеть довелось,
как между леса-миража
бежал бесшумный лось —
в лесу, пригрезившемся мне,
сей лось мелькнул, как сон,
но как Плисецкая горе
вздымал колена он.
«Белый день – то рай Господний…»
Белый день – то рай Господний.
Ночь черна – то ад напрасный.
А уж сумрачно, ненастно,
надо быть, во преисподней.
«Что ж было? – похоти гульба?..»
Что ж было? – похоти гульба? —
поди теперь пойми —
ведь я был пьян, она глупа,
и все забыли мы.
Ан помним эти времена,
как взятые взаймы,
хоть я был зол, она пьяна,
и все забыли мы.
Но друг без друга всяк из нас,
как нищий без сумы,
иль, как без хохота паяц,
раз все забыли мы.
«Не грядкой дерна в мире кратком…»
Не грядкой дерна в мире кратком,
не вздохом вечно молодым,
а станем мы миропорядком —
ведь мы и были им.
«Сосулькой с неба к нам стекла…»
Сосулькой с неба к нам стекла.
Вокруг нее – тела, тела
холодные – тепло их переходит
в ее извечный холод —
ведь холод вечно алчен до тепла.
Дождь всенощной утром
курится, как дым,
но зрением утлым
мы видим за ним —
пусть тускло,
пусть слепо
«дождь в глине увяз»,
что зоркое небо
глядит не на нас.
«Сквозь безвозвратность лживую…»
Сквозь безвозвратность лживую
все в мире ярче, но
обратной перспективою
искажено:
как будто погрузился всяк
предмет себя на дно,
и стало явственней, чем знак,
лица ль, души пятно.
«Август – иль как не бывало…»
Август – иль как не бывало
лето? или даль честна?
Август? – не конец – начало,
август – осени весна.
Август – созреванья сгусток,
но у августа тайком,
как у автора «Августы»
в теплом горле – снежный ком.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу