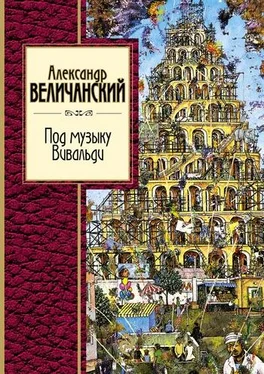«Позднее лето. Голубое поле капусты…»
Позднее лето. Голубое поле капусты.
Огнеопасный, покуда не вспыхнувший лес.
Брошенных велосипедов
не ветер ли крутит колеса?
Ох, а мы лезем и лезем
в Москва-реки серый отвес.
«Флот тонет в море. Пир – в вине…»
Флот тонет в море. Пир – в вине.
И все блаженнее Антоний.
И все божественнее Август.
И все незванней всякий гость.
И у привыкшей хохотать
от плача занемели плечи,
глаза, затекшие от плача,
таят свою златую злость.
Дождь перестал
и, опоздав,
ты все ж пришел
в замоскворецкий
июльский двор,
но нынче дождь,
навек, должно быть,
зарядил он.
21–24.11.77
Первая желтая прядь
в русалочьи волосы леса
впуталась. Впредь – только время
и срок его верный не вем.
Прядает ветер,
испуган неведомо кем,
жалко кривятся
стволы фонарей из железа,
и облетает с них свет
на рассвете совсем.
Член ИКП анкетный,
как гений богодан,
не понял он, что «captain»
не значит капитан
большого парохода
иль полковую вошь,
а значит: воевода —
великих браней вождь.
Трагического действа
весь смысл Шекспира в том,
что гения бездействия,
что Гамлета с брюшком,
что этого болвана
под славный звон мечей
«четыре капитана»
уносят в мир теней.
«Раз заходил ко мне сей правоверный еврей…»
Раз заходил ко мне сей правоверный еврей —
был он тогда математик, но ныне своей
вывезен в Лондон – английской своей половиной.
Не математик теперь он – истсайдский раввин он.
Зингера «Страсти» пришел он кошерно продать
(не разживешься, поди, в одночасье мильоном)
за подороже плюс двадцать процентов – он (мать…
он математиком был), хоть еврейским бульоном
залит был сборник и жирною грязью порос
(так мы узнали, что значит и впрямь chicken broth).
И очутившись в моей, как решил он, каморке,
снявши роскошную шапку, остался в ермолке.
В комнате он на Николу Угодника страсть
как… вопросительно глянул, – но лишь как на моду.
Библии же углядевши славянскую вязь,
рек он: «О, нет не вино вы здесь пьете, а воду».
Как мне хотелось ответить ему, что вино
их иудейское кончилось в Канне давно:
вода крещенья в вино обратилось причастья
(греческий он не постиг за отсутствьем пристрастья).
Спорить полезно лишь с единомышленником.
Вместе с деньгами я отдал раввину бесплатно
стихи для сборника, что составляла тайком
его жена – англичанка – ну, отдал и ладно,
но, сознаюсь, ненавистен мне был этот мой
«либерализм», хоть беззлобный, но слишком немой!
И удалился несбывшийся сей поединок —
только вода, что стекла с его снежных ботинок
стояла в комнате (просто вода, не вино),
я же глядел на нее, ведь еврей я отчасти,
видно молчанье отчаяньем мне суждено…
«Страсти» же Зингера мне полюбились до страсти.
«Сорока – запустенья птица…»
Сорока – запустенья птица —
о чем она кричит одна,
когда сыта и не боится?
Природа осенью больна,
у листьев пожелтели лица,
но снег просох в ночной траве,
и еж шуршит, когда клубится
в попрошлогодневшей листве.
«Пустыня. Люди в разных позах…»
Пустыня. Люди в разных позах
лежат: потерянный народ.
Заутра снова, словно посох,
песок змеится: вновь вперед.
И сколько лет сей сон кошмарный
не прерывается нигде:
песок мы называем манной,
привыкли к каменной воде.
На востоке тайной
именуют всю
видимость созданья,
мерзость и красу.
Что ж такое Майя,
а всего скорей —
НАИМЕНОВАНЬЯ
всех земных вещей.
«Тогда мы с милой жили, словно…»
Тогда мы с милой жили, словно
вожди – в душистом шалаше.
Текла под нами Воря сонно —
мы искупались в ней уже.
В ней слева мельница плескалась,
а справа, где реки излом —
ночами что-то зажигалось
в деревьях – сумасшедший дом.
А прямо – каменная веха
пустого ветхого села —
с конца XVI века
стояла церковь бел-бела.
Допреж ее – Тверска застава —
здесь был Микулин-городок,
и слева мельница, и справа
бездомный призраков приток.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу