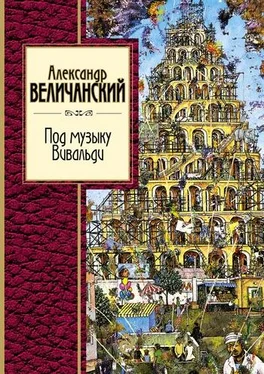«Не открой свово сердца всякому…»
Не открой свово сердца всякому,
не открой свово сердца некому,
не открой ты его никоему,
не открой ты его и сам себе.
То-то зима натекла:
ни холода, ни тепла,
ни тепла, ни холода,
ни коня, ни повода,
ни повода, ни узды,
ни постоя, ни езды,
ни езды, ни ездока —
лишь дорога глубока.
В войны последней
лихое время
своею смертью
никто не умер,
но все погибли —
герои, трусы —
и даже те,
кто в живых остался.
«Время, срок – и в этом суть…»
Время, срок – и в этом суть —
близок нам ВСЕГДА:
вечности бескрайний гимн —
краткие года —
пусть вода течет, «как суд»,
правда, «как поток»,
по щекам твоим нагим
в скомканный платок.
«Господи, отчего тиранов…»
Господи, отчего тиранов
сотворил Ты подобно людям —
т. е. им Твоего подобья
тоже толика перепала,
отчего, как Шекспир, не сделал
Ты тирана горбатым карлой,
колченогим, кривоколенным,
чтобы лик его безобразным
был, как мерзость и как проказа,
и как козни его тиранства,
отчего, как Шекспир, Ты дал им
дар чернейшего красноречья,
а порою, как тот же Уильям,
ум давал им, хоть безоглядный,
но ухватистый и глубокий,
словно прорва иль ров могильный?
А ведь мог бы, Господь, тирана
Ты дебилом наглядным сделать,
чтоб безмозглости ряской трусы
оправдали его злодейства.
«Леска микрорайонного края…»
Леска микрорайонного края
означились средь сумрака зевоты.
– Все ждешь, когда затеплится заря
Господняя? —
Ага. Всё жду. Но кто ты?
«Как пришла бодлива корова…»
Как пришла бодлива корова
к самому ли ко Господу Богу,
что рогов-то ей не дал, бодливой,
и мычит языком человечьим:
«Что ж Ты так надо мной наглумился —
уж трава-мурава мне не в голод,
уж вода ключева мне не в жажду,
уж и мык мне надойный не в муку,
уж телок мне ношенный не вношу,
рок не в рок мне, безрогой, без рог-то
рок не в рок мне и Бог мне не в Бога.
«Наша с соседом обитель (палата т. е.)…»
Наша с соседом обитель (палата т. е.)
всем хороша: свой душ и свой сортир есть,
и возвращаясь из них, сосед мой – свиток
необходимой бумаги с собой приносит
и заповедно ставит в изголовье,
занавес век иудейских не опуская
долу… Бывало так Катулл, вернувшись
утром с попойки иль с чужого ложа,
словно лампаду, ставил в изголовье
свиток стихов, у Лесбии отбитый.
«Могильщик крикнул не грубей…»
Могильщик крикнул не грубей,
чем принято, и враз
устало стая голубей
над кладбищем взвилась
тысячекрыло… будто бы
из всех земных застрех
в небесный промысел судьбы
земной поднялся снег.
И жизни вплоть, и смерти вплоть
век связывает нить…
Чтоб праха глиняный ломоть
над прахом преломить.
И нет империи окрест —
ни крыш, ни этажа —
друзья, ноябрьский резкий лес
прозрачный, как душа.
«Совсем вблизи она походит на…»
Совсем вблизи она походит на
ту предотъездную не суету пустую,
но пустоту, что тупо стеснена
в подвздошье где-то. И пока ты всуе
одно и то же тщишься в сотый раз
не позабыть – но что? – вот в чем загвоздка,
она стоит, как позабытый класс
на фотоснимке вкруг тебя подростка…
Вблизи она походит на пробел
в подспудной памяти иль в знании ответа…
Как будто «на дорожку» ты присел,
и нету сил подняться, Лизавета.
Понуро, обреченно
уходит навсегда
измученная черная
рожалая вода
из голубого пыла
в свой беспросветный прах,
и что же это было,
я не пойму никак.
Сначала меньше,
потом лучше,
но все кромешней
черная вода,
и ты опознан
в отражений гуще
сначала поздно,
после – никогда.
«Уж туч октябрьских толща…»
Уж туч октябрьских толща
полна ноябрьской мглой.
Неслышнее и тоньше
листвы истлевшей слой.
Просвет так мал у суток.
Почти исчезла суть
свечения, и в сумрак
души не заглянуть.
Как возродился все же
язычества мираж,
так возродиться, Боже,
Ты Своей вере дашь.
То рассветает, а не
смеркается впотьмах:
заря в своем тумане,
как Лазарь в пеленах.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу