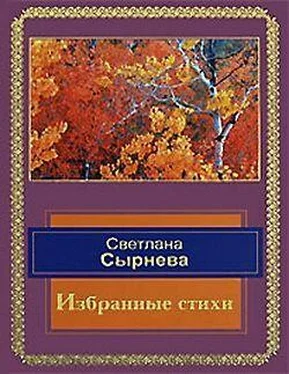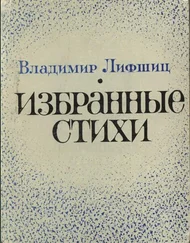И, провожая, плескались в окне три руки,
три побледневших лица приникали к стеклу
скорбной тюрьмы, конуры, и квадратом тоски
тихая заводь бессильно смотрела во мглу.
Поезд случайный навзрыд
загудит и, простучав, тишину установит.
И восстановится осени вид —
тот, что, как зубы от холода, ноет.
В грязной реке отразится,
тверез, весь беспорядок крутого угора:
ржавые трубы, обрубки берез,
полуразрушенный купол собора.
Многострадальной земли мерзлота!
Ты не годишься для праздных гуляний:
чуть прикоснулась душа —
и снята гипсовым слепком с твоих очертаний.
Запечатлеет, глупа и нежна,
трактор в трясине да избы убоги.
Что с нее взять, если позже она
ищет повсюду своих аналогий!
Разумом здрав ли, нормален ли тот,
кто этой скудости счастьем обязан?
Поздно гадать, ибо сей небосвод
серым узлом надо мною завязан.
«Мама, мне страшно, в канаве вода.
Мама, мне холодно, дрожь пробегает.
Мама, зачем мы приходим сюда?»
Некуда больше идти, дорогая.
Мученик! Вот и прошел,
вот и облекся в хулу,
меньшее выбрав из зол —
непротивление злу.
В землю зарывший талант,
попусту теплил алтарь,
слухов не оправдал,
вписанных в календарь.
Посланный быть впереди,
что ж ты не свергнул мороз!
Разве не ты на груди
книги крамольные нес?
Ночью, бывало, не спит,
нянчит идею борьбы.
Где же он, твой динамит,
где твое «мы не рабы»?
Март мой! Тебе каково
было свой век коротать:
все понимать и страдать —
и не свершить ничего!
Так и ушел навсегда
с чистым дыханьем стыда.
Но накопилась вода
в сумраке снега и льда,
где-нибудь с крыши навис
пласт – и зимы не спасти:
двинулся, рушится вниз,
рвя провода на пути.
В час, когда вычищен
Млечный Путь, и висит надо мной —
выйти бы незамеченной,
как из пещеры сквозной!
Он над вечерними лязгами
кухонных сковород
тихо течет, подсказывая:
здесь переходят вброд.
Легкая перекладина,
жердочка на небеси!
Вот наконец ты найдена:
ухвачусь – унеси.
Жизнь моя, жизнь нездешняя,
вспомни меня, приди,
как за оставленной вещью
возвращаются с полпути.
Быть вольной вовек, как трава молодая,
чей короток срок, но выносливы корни;
в лицо рассмеяться, под серп попадая:
трофей незавиден, он вас не накормит!
Всходить, чтоб везде узнавали: по листьям,
по чистому цвету, по буйному росту,
по старой привычке – без страха селиться
где счастья не вдоволь и выжить непросто.
Сгодиться Отчизне в тот день ее черный,
когда ни сказать и ни крикнуть иначе,
как только лишь выпрямить стебель упорный
и, молча поднявшись, себя обозначить.
И путник, проснувшись, покинет жилище,
и утренний ветер навстречу подует.
И путника спросят: чего же ты ищешь?
И путник ответит: траву молодую.
Проживу, как поляна в бору,
или – как муравейник в овраге,
с их невидимой на миру
малой долею тихой отваги.
Им сегодня труднее всего
в диктатуре дымов и мазутов
соблюдать и хранить естество
без расчета потрафить кому-то.
Пусть кричат, что поляна не та,
против прежнего мал муравейник.
Не отнимут на шее креста,
даже если наденут ошейник.
Образумишься, когда затопит,
запоздало вперишься в окно —
но из мрака выдвинется тополь,
исполином, канувшим на дно.
Он с повадкой водоросли темной,
с этой вечной ощупью больной.
Долгой переправою паромной
тучи проплывают под луной.
О глухая полночь донной жизни,
тинной жизни, вставшей по углам!
И пока глядишь в окно, осклизнет
под рукой переплетенье рам.
И морочит, и гнетет, и давит
медленное тленье глубины,
и бессильно в тучах пропадает
посланный на землю свет луны.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу