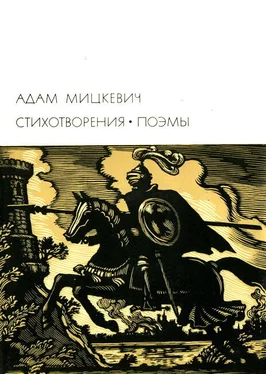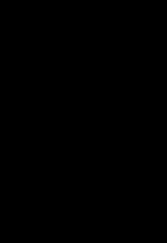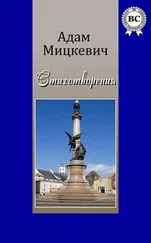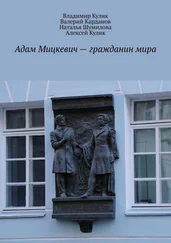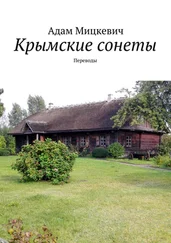В условиях самодержавной России распространение III части «Дзядов» было, разумеется, невозможно. Это не заглушило, однако, жгучего интереса нашей передовой общественности к революционному произведению Мицкевича, в особенности к «Отрывку», повествующему непосредственно о России. Одним из первых в России познакомился с ИГ частью «Дзядов» Пушкин, которому доставил ее возвратившийся в 1833 г. из-за границы С. Л. Соболевский. В бумагах поэта сохранился переписанный им текст стихотворений «Отрывка». Свое знакомство с последним он засвидетельствовал в примечаниях к «Медному всаднику». А. И. Герцен сделал в своем дневнике 1843 г. несколько замечаний о поэме Мицкевича, высоко оценив ее «дух отрицанья, сильный, истинно байроновский» и проявив особое внимание к стихотворениям «Отрывка» «Дорога в Россию» («Много прекрасного, высокохудожественного в этом плаче поэта. Боже мой, как хороша у него картина русской дороги зимой, бесконечная пустыня, белая, холодная…»), и «Памятник Петру Великому» («Замечательно в той же поэме место о памятнике Петра»).
Русские переводы из «Дзядов» на протяжении XIX в. могли воспроизводить лишь относительно «невинные» места поэмы (П. А. Вяземский в 1873 г. включил прозаический перевод «Памятника Петру Великому» в свою статью «Мицкевич о Пушкине»; к столетию со дня рождения Пушкина, в 1899 г., «Жизнь» опубликовала и стихотворный перевод) либо появляться в нелегальной печати. Н. А. Добролюбов в 1855 г. перевел «Русским друзьям» для рукописной газеты «Слухи». Н. П. Огарев печатал это стихотворение в лондонском издании «Дум» Рылеева (1860) и сборнике 1861 г. «Русская потаенная литература». И только в 1906 г. в России были опубликованы сразу четыре (!) перевода «Русским друзьям» и перевод VIII сцены «Дзядов». В 1917 г. переводится весь «Отрывок» (В. Фишер), вошедший также (в переводе С. Соловьева) в однотомник Мицкевича 1929 г. Лишь в 1952 г. русский читатель получил полный перевод III части «Дзядов» (В. Левик).
Лица, упоминаемые в посвящении, были воспитанниками Виленского университета и членами тайных кружков. Ян Соболевский, приговоренный к солдатчине, умер в 1829 г. в Архангельске. Циприан Дашкевич, юрист и историк, сдружился с Мицкевичем во время пребывания в Москве, где и умер в 1829 г. Феликс Куликовский, филолог и поэт, был сослан в Казань, изучал там восточные языки, скончался в 1831 г. в Петербурге.
Стр. 287. Новосильцев Николай Николаевич (1761–1838) — был одним из приближенных Александра I, в свое время членом так называемого «Негласного комитета». Назначенный в 1815 г. полномочным императорским делегатом при правительстве Царства Польского, проводил политику жесточайшего подавления малейших проявлений национального движения.
Стр. 288. Цесаревич Константин (1779–1831) — великий князь Константин Павлович, занимал пост командующего войсками Царства Польского и фактически пользовался в нем всей полнотой власти.
Вильно, центр просвещения… — Вильно был в те годы не только университетским городом, но и центром учебного округа. Должность попечителя округа занимал в 1803–1824 гг. Адам Ежи Чарторыйский (1770–1861), князь, один из богатейших польских магнатов, близкий в начале своей политической деятельности к Александру I (занимал должность министра иностранных дел), Во время восстания, в 1831 г., он возглавлял Национальное правительство, в эмиграции стоял во главе аристократической консервативной партии.
…сами прекратили свою деятельность… — Мицкевич не мог в то время рассказать всей правды о тайных молодежных организациях, ибо большинство их участников было в руках царских властей.
Стр. 289. Зан Томаш (1796–1855) — студент физико-математического факультета, был одним из основателей в 1817 г. Общества филоматов, а позднее — филаретов. (См. вступ. статью к наст. тому.) Одновременно был членом масонской ложи в Вильне и тайного «Патриотического общества». На следствии стремился выгородить товарищей и принять большую часть обвинений на себя, что обусловило достаточно суровый приговор: год крепости и ссылка в Оренбург, длившаяся тринадцать лет (на Урале Зан выполнил ряд геологических исследований). Зан был также поэтом, популярным в филоматском кругу.
…божья кара… — Мицкевич имеет в виду внезапную смерть доктора Векю и Байкова, фигурирующих в качестве персонажей «Дзядов», и Винцентия Лаврыновича, не упомянутого в драме по имени, Виленского губернского советника, члена следственной комиссии (ум. в 1824 г.).
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу