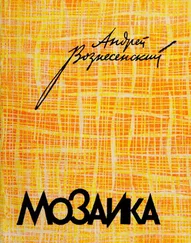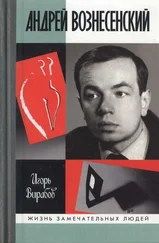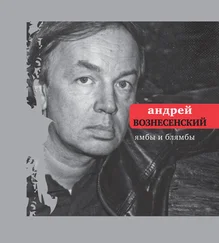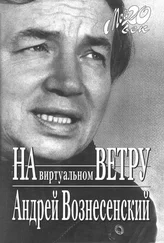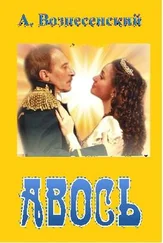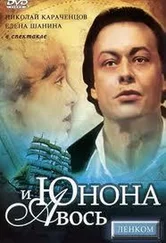«Проснется он от темнотищи…»
* * *
Проснется он от темнотищи,
почувствует чужой уют
и голос ближний и смутивший:
«Послушай, как меня зовут?»
Тебя зовут – весна и случай,
измены бешеной жасмин,
твое внезапное: «Послушай…» –
и ненависть, когда ты с ним.
Тебя зовут – подача в аут,
любви кочевный баламут,
тебя в удачу забывают,
в минуты гибели зовут.
Все хорошо пока что.
Лишь беспокоит немного
Ламповый, непогашенный
свет посреди дневного.
Будто свидетель лишний
или двойник дурного –
жалостный, электрический
свет посреди дневного.
Сердце не потому ли
счастливо, но в печали?
Так они и уснули.
Света не выключали.
Проволочкой накалившейся
тем еще безутешней,
слабый и электрический
с вечера похудевший.
Вроде и нет в наличии,
но что-то тебе мешает.
Жалостный электрический
к белому примешался.
«Теряя свою независимость…»
* * *
Теряя свою независимость,
поступки мои, верней, видимость
поступков моих и суждений,
уже ощущают уздечку,
и что там софизмы нанизывать!
Где прежде так резво бежалось,
путь прежний мешает походке,
как будто магнитная залежь
притягивает подковки!
Безволье какое-то, жалость…
Куда б ни позвали – пожалуйста,
как набережные кокотки.
Какое-то разноголосье,
лишившееся дирижера,
в душе моей стонет и просит,
как гости во время дожора.
И галстук, завязанный фигой,
искусства не заменитель.
Должны быть известными – книги,
а сами вы незнамениты,
чем мина скромнее и глуше,
тем шире разряд динамита.
Должны быть бессмертными – души,
а сами вы смертно-телесны,
телевизионные уши
не так уже интересны.
Должны быть бессмертными рукописи,
а думать – кто купит? – бог упаси!
Хочу отреченья простого
от черт, мне приписанных публикой.
Монархия первопрестольная
в душе уступает республике.
Тоскую о милых устоях.
Отказываюсь от затворничества
для демократичных забот –
жестяной лопатою дворничьей
расчищу снежок до ворот!
Есть высшая цель стихотворца –
ледок на крылечке оббить,
чтоб шли обогреться с морозца
и исповеди испить.
«Наш берег песчаный и плоский…»
* * *
Наш берег песчаный и плоский,
заканчивающийся сырой
печальной и темной полоской,
как будто платочек с каймой.
Направо холодное море,
налево песочечный быт.
Меж ними, намокши от горя,
темнея, дорожка бежит.
Мы больше сюда не приедем.
Давай по дорожке пройдем.
За нами – к добру по приметам –
следы отольют серебром.
Купаться в шторм запрещено.
Заплывшему – не возвратиться.
Волны накатное бревно
расплющит бедного артиста!
Но среди бешеных валов
есть тихая волна –
пасата,
как среди грома каблуков
стопа
неслышная
босая.
Тебя от берега влечет
не предрассудок бесшабашный,
а ужасающий расчет –
в открытом море
безопасней.
Артист, над мировой волной
ты носишься от жизни к смерти,
как ограниченный дугой
латунный
сгорбленный
рейсфедер!
Но слышит зоркая спина
среди безвыходного сальто,
как зарождается волна
с протяжным именем – пасата.
«Пасата,
возвращающая волна,
пасата,
запретны мои заплывы,
но хлынула тишина
возврата,
я обожаю воду –
но что она без земли?
Пустая!
Я обожаю свободу –
но что она без любви,
пасата?
Неси меня, пока носишь,
оставишь на берегу, –
будь свята!
Я встану
и, пошатываясь,
тебя поблагодарю,
но ты растворишься в море,
не поглядев,
пасата…»
«Память – это волки в поле…»
* * *
Память – это волки в поле,
убегают, бросив взгляд, –
как пловцы в безумном кроле,
озираются назад!
«Ты поставила лучшие годы…»
Читать дальше