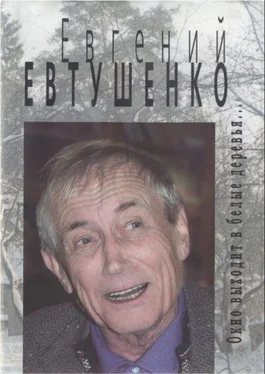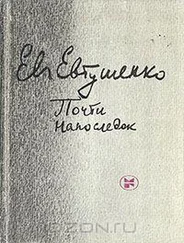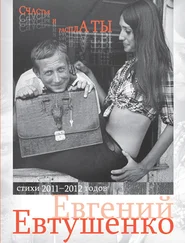26-27 ноября 1998 Талса
«Никогда я в жизни не состарюсь…»
Никогда я в жизни не состарюсь,
никогда не буду одинок.
Я из всех других людей составлюсь,
как стихотворение из строк.
Я когда-то всем вам пригодился,
ну а если даже отгожусь,
то с клеймом лжеца и проходимца
от себя и вас не откажусь.
Я не откажусь от той эпохи,
на какую нечего пенять,
от стихов, которые так плохи,
что без них эпохи не понять.
Я не откажусь от всех девчонок,
тех, с какими грех мне был не в грех.
Я их всех любил, как нареченных, —
жаль, что не женился я на всех.
Вбитый в бочку так, что выла выя,
не желая жить по воле волн,
я, как долговязая Россия,
с маху вышиб дно и вышел вон.
Гения во мне не угадали
братики-поэты, но зато
горочки меня не укатали —
числился я в сивках ни за что.
Выжил я в Москве, да и в Нью-Йорке,
и теперь пойди меня распни!
Первым сивкой, укатавшим горки,
стал я среди лириков Руси.
Каюсь я во всем. Ни в чем не каюсь,
бытие есть и в небытии.
В хладных водах Леты брезжит карбас,
ну а в нем — товарищи мои.
Меня били сызмальства в манежах.
Зажило, и снова заживет…
Если я тону, ко мне «Микешкин»
даже по асфальту подплывет.
Жизнь передо мной не виновата.
Умирать совсем не страшно мне,
потому что даже тень Булата
мне споет над Летой на корме.
Биться мне всю жизнь, но не разбиться,
а сгорю — вас будет греть зола.
Если суждено мне вновь родиться,
то опять — на станции Зима.
19 августа 1999 Переделкино
ГОЛОС В ТЕЛЕФОННОЙ ТРУБКЕ
Если б голос можно было целовать,
я прижался бы губами к твоему,
шелестящему внутри, как целый сад,
что-то шепчущий, обняв ночную тьму.
Если б душу можно было целовать,
к ней прильнул бы, словно к лунному лучу.
Как бедны на свете те, чья цель — кровать.
Моя цель — душа твоя. Ее хочу.
Я хочу твой голос. Он — твоя душа.
По росе хочу с ним бегать босиком,
и в траве, так нежно колющей греша,
кожи голоса коснуться языком.
И наверно, в мире у тебя одной
существует — хоть про все навек забудь! —
этот голос, упоительно грудной,
тот, что втягивает в белый омут — в грудь.
15 мая 2002 Переделкино
Поцелуем на Пасху дарующая,
но, свои преступленья замалчивая,
обворованная и ворующая,
ты, Россия, — цветок Мать-и-мачеха.
Но добро к нам добром и воротится.
Ты — моя и гриневская Машенька,
Богородица, Пушкинородица
и, как водится, просто Русь-матушка.
Так за что ты людей и надежды
столько лет по-бандитски замачиваешь?
Если всех убийц не найдешь ты,
ты себя не найдешь, Русь-мачеха.
Сострадать иногда безнадежно.
Жить спокойней с душою р о ботной,
но без боли за все невозможно
быть ни матушкой и ни родиной.
Мы играем в слова, как в мячики,
но, трусливо ругаясь мастерски,
всех и вся посылаем не к мачехе,
а к чужой неповинной матери.
Июль 2002 Переделкино
АНАСТАСИЯ ПЕТРОВНА РЕВУЦКАЯ
Не позабыл пионерские клятвы еще,
все же немножечко поумнев.
Что за тоска меня тянет на кладбище,
русское кладбище Сен-Женевьев?
Я обожал Кочубея, Чапаева.
Есть ли моя перед ними вина,
если сейчас, как родные, читаю я
белогвардейские имена?
Я, у Совдепии — красной кормилицы —
поздно оторванный от груди,
разве повинен, дроздовцы, корниловцы,
в крови, засохшей давно позади?
У барельефа красавца деникинца,
если уж пившего — только до дна,
что-то терзает меня — ну хоть выкинься
в ночь из гостиничного окна.
Где-то на тропке, струящейся ровненько,
вдруг за рукав зацепила меня
в розочках белых колючка шиповника,
остановиться безмолвно моля.
Это сквозь войны и революции,
сквозь исторический перегной
Анастасия Петровна Ревуцкая
заговорить попыталась со мной.
Я не узнал, где ни спрашивал, — кто она.
Не из писательниц, не из актрис.
Скрыв, что ей было судьбой уготовано,
молча над нею шиповник навис.
Из Петербурга, а может, Саратова;
Может, дворянка, а может быть, нет…
Но почему она веткой царапнула,
будто на что-то ждала мой ответ?
Читать дальше