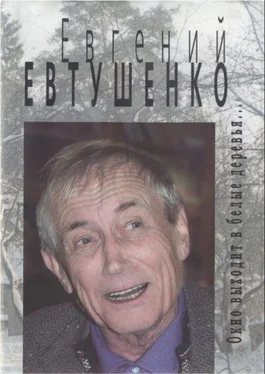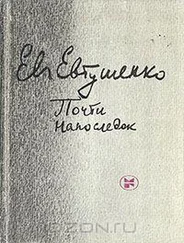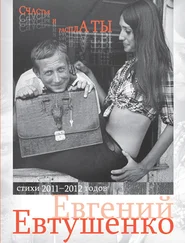6 июля 1996
Вот когда я смерти испугался,
позабыв, что должен мир спасти,
когда сняли с моей шеи галстук
руки негритянки-медсестры.
И когда я с жалобным намеком
взглядом показал на туалет,
шприц ее был тверд, а глаз — наметан:
«Кровь — сначала». Вот и весь ответ.
Эта четкость профессионалки,
слезы не ронявшей на халат,
сразу показали мне, как жалки
те, кто жалость выпросить хотят.
Но на чем Россия продержалась,
что ее спасает и спасло?
Христианство наших женщин —
жалость, горькое второе ремесло.
Что я вспомнил? Детство, Транссибирку,
у плетня частушки допоздна,
а в американскую пробирку
кровь моя по капле поползла.
Где-то в Оклахоме и Айове
неужели высохнет душа
капельками русской моей крови,
всосанными в землю США?
Новая Россия сжала с хрустом
и людей, и деньги в пятерне.
Первый раз в ней нет поэтам русским
места ни на воле, ни в тюрьме.
На Кавказе вороны жиреют,
каркают, проклятые, к беде.
Но в России все-таки жалеют,
как не могут пожалеть нигде.
Я подростком был в чужой шинели.
С жалости учились мы любви —
женщин обезмужевших жалели,
нас они жалели, как могли.
Пасечница, в страсти простовата,
с метками пчелиными на лбу,
«Я тебя жалею…» — простонала.
Это было: «Я тебя люблю».
Мы в стране, к несчастьям небрезгливой,
словно дети жалости, росли
под защитой пьяненькой, слезливой
нежной матерщинницы — Руси.
Если застреваю в загранице,
слышат, сердце сжалось ли во мне,
чуткие российские больницы,
нищие, но жалостливые.
Нянечки умеют осторожно,
как никто, кормить и умывать.
Если жить в России невозможно,
то зато в ней лучше умирать.
18 июля 1996
Мне жизнь все менее мила,
но драгоценнее, пожалуй.
Не умирай раньше меня,
мой друг седой, мой волк поджарый.
Обобран ты, обобран я.
Предательствами я придавлен.
Не умирай раньше меня.
Умрешь — поступишь, как предатель.
Tы — пьющий mormon,
Russian — я.
У нас врагов на загляденье.
Не умирай раньше меня,
не оставляй им на съеденье.
Ты не однажды меня спас
на теплой к нам войне холодной,
но как мне холодно сейчас
в свободе нашей несвободной.
Мы быть не сможем не у дел.
Сам наш удел есть неотдельность.
Другим оставим беспредел.
Себе оставим
беспредельность.
1996
«Как трудно от мысли отделаться словом…»
Как трудно от мысли отделаться словом,
когда не под силу заснуть до утра
и с треском трепещут в тумане лиловом
тяжелые красные крылья костра.
Как трудно понять, что задумали листья
и мысли какие у дряхлого пня,
когда из беззвездности лепятся лица,
отлитые бронзовым блеском огня.
Как трудно понять, для чего на рассвете
под шелест плакучих обнявшихся ив
неспящие лошади слушают ветер,
игривые гривы устало склонив.
И просит родник: «Из меня ты напейся.
Ты губы надолго в меня опусти».
И, словно дыханье, рождается песня,
в которой слова невозможны почти.
1954–1996
Чуть-чуть мой крест,
чуть-чуть мой крестик,
ты — не на шее,
ты — внутри.
Чуть-чуть умри,
чуть-чуть воскресни,
потом опять чуть-чуть умри.
Чуть-чуть влюбись,
чуть приласкайся,
чуть-чуть побудь,
чуть-чуть забудь,
чуть-чуть обидь,
чуть-чуть раскайся,
чуть-чуть уйди,
вернись чуть-чуть.
Чуть-чуть поплачь —
любви не дольше,
как шелуха,
слети с губы,
но разлюби чуть-чуть —
не больше!
И хоть чуть-чуть не разлюби.
Март 1997 Тель-Авив
«Если снова в глазах так защиплет…»
Если снова в глазах так защиплет
от безвременных стольких смертей,
мне страшна не моя беззащитность,
а любимой и наших детей.
И никак во мне страх не растает,
если времени вопреки
на их темечках не зарастают
розоватые «роднички».
Я и сам лишь кажусь защищенным.
Убежав от пинков даровых,
я скулю беспородистым щеном
среди стольких машин дорогих.
Не прочитан я, а зачитан.
Замусолен, захватан я весь.
Кто прославленней — тот беззащитней.
Слава — самая хрупкая вещь.
Читать дальше