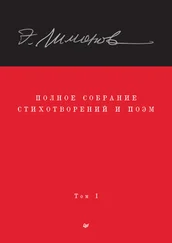Минут земных задумчивое тленье,
живое пенье маленькой плиты
и ты –
твое тепло и каждая минута
с тобой... Вот вечер, и свеча задута,
и мы покрыты обнаженной тьмой...
Упрямость лет и дерзость... и над нами
наш дом раскинет безопасный кров.
И будем мы в течение часов
с тобой, обнявшись, отплывать ночами
в мiр тишины. Тогда как рядом сплю
увидишь ты,– как бреюсь,– как очками
взметаю блики я над чертежами...
как груз житейский на плечах коплю.
Узнаешь все во мне – в душе и в теле.
В окно заглянут серые недели,
слетят года сугробами на дом.
И новый дух в нас шевельнет крылом.
У боязливых, сгорбленных в работе
он будет жизни требовать и плоти...
Уже не раз казалось мне: не в том
земное счастье, чтобы ставить дом
и в нем с тревогой теплить жизнь и пламя,
под известковым небом – потолком
друг друга греть несытыми телами,
что есть иная близость,– это та,
которой мы названия не знаем –
ей не страшна пространства пустота,
ей целый мир – огромным садом – раем.
192
Урча на ножках черных из угла,
он поедает, черный Бог тепла,
как в древности, разорванные части
древесных тел.
В его квадратной пасти,
еще к словам высоким не привык,
ворочается огненный язык;
и черною коленчатой трубою
повиснул хвост его над тишиною,
протянут в воздухе,
гудит, дрожа, теплом.
Дом молится, отходит, тает дом.
Волнуется, течет, шумя над нами,
тепло, струясь по комнате кругами,
в окне, где пласт полярных хрусталей,
вдоль косяков, вдоль стен – пыльца огней:
там иней свил сверкающие гнезда,
седой, иглистый, леденящий мох.
Но пышет тьмой чугунный черный Бог,
и тает мiр – текут огни и тени
вдоль стен, вдоль лиц – прозрачные ступени.
И обнажается,
волнуясь и дыша,
оттаявшая
смертная
душа.
193
Дрожит и стонет, напрягаясь, дом
под старой ношей тьмы и тяготенья.
Я изменить не смею положенья –
жена уснула на плече моем.
Тот мир, что людям кажется шатром,
в ничто распылен рычагом творенья
и мчится мимо огненным дождем,
и с ним, боясь покоя, замедленья,
спешат стальным точильщиком жучком
часы-браслет на столике ночном.
Моей любовью первою был Бог,
второй, земной – жена, еврейка Ева,
и жизнь моя была проста без гнева,
и будет духом мой последний вздох.
То потухая над землею слева,
то возникая справа над землей,
сменялось солнце мраком и луной.
И точно песнь теперь передо мной
прошедшее: от детского запева
до этой ночи, обнаженной тьмой...
194
Все стало просто на моей земле.
Огонь, что был еще вчера крылатым,
дрожит, шипя над примусом пузатым
и отражаясь в лопнувшем стекле.
Всю ночь следит недобрым ликом тень –
гигант, стоящий молча у подножья.
И стал трудом немилым – радость Божья –
наш золотой, всегда весенний день.
Здесь, в четырех стенах глухих часов,
где стеснено и тело, и дыханье,
я раскрываю жизнь мою в молчанье,
не находя скупых, житейских слов.
195
К окну вплотную подошла луна.
Плечо к плечу, бедро к бедру без сна
лицом в подушку мы с тобой лежим.
Вся наша жизнь луной освещена.
Жена моя, почти всю ночь не спим,
и вспышки слов и мыслей легкий дым
летят над нами в отсветах окна.
Куст наших душ горит неопалим.
Не ночь, когда брачуются тела,
но эта ночь нам свадебной была –
ночь встречи встреч, трепещущих огней
в телах, еще не выжженных дотла.
Единоборства ночь. Среди ночей,
луной томящих воды и людей,
той ночи лунной комнатная мгла
нас сочетала тайною своей.
196
Из тьмы ночной иная тьма сейчас
возникнет – сон глухонемой и нас
бесчувственной разделит немотою.
Еще под жаркой сонною рукою
ты вся живая, близкая горишь –
еще тобой полна глухая тишь.
Еще шевелимся, бормочем, называем
друг друга шепотом, целуем и вдыхаем
волос и кожи запах золотой –
любовный мед, сгущенный тишиной.
Но дышат ребра, мерно округляясь.
Наш час родной плывет, дрожа, качаясь,
над бездной сна... колеблется наш кров,
укрытый нами от дневных часов,
от суеты томительной недели –
шатер гнезда горячего постели.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу