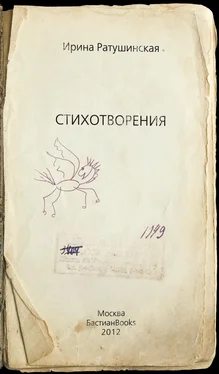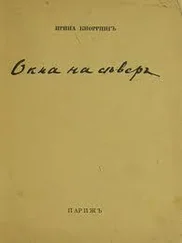1989 Париж
«Улетай, мой белый, лети!..»
Улетай, мой белый, лети!
Я тяжёлый, а ты лети!
Десять раз собьёшься с пути —
И тебя уже не найти.
Улетай!
Оставляй
И меня, и магнитное поле, и ветер,
И поля, и моря, что бывают на свете —
Забывай!
Покидай!
Уходи, не спросясь, на другую планету —
В синий рай,
В птичий грай,
В темны заросли бересклета —
Улетай, раз уж я не могу
(Потому что я лгу,
Как учили ремнём и обидой).
Потеряйся скорее из виду —
Где локаторам не достать,
Где другие — тебе под стать,
Где не надо в школе стараться,
Где не надо — чёрным по белому...
Аист мой, из бумаги сделанный,
Принеси мне братца!
1989 Лондон
Есть ещё наглецы из числа недобитых,
Не ушедшие в землю, где травы — взасос...
Да за что же наносят такую обиду
Корневым вожделеньям родимых берёз!
И смеются, и дышат, не чувствуя меры,
Над бестактной строкой протирая штаны.
Не хватает им, что ли, прекрасных примеров
Так удачно умерших талантов страны?
На посмертную корочку члена союза
Как им было бы лестно смотреть с высоты!
А они вместо этого балуют с музой,
Да терзают гитары, да портят холсты.
А спросите по чести, чего они ищут —
Так и сами не знают до белых волос...
До чего же без них недостаточно пищи
Для гражданского чувства газетных полос!
А они бестолковые свищут мотивы,
Биографии портят едой и питьём,
И живут, и живут... Если все будут живы —
То скажите на милость, куда мы придём?
Кем шпынять молодых возомнивших поэтов,
Чьими датами жизни тиранить ребят?
Вы дурили — ну ладно. Забудем про это.
Помирайте скорее, и всё вам простят!
1989 Кембридж
триптих
Так вы жили, весело старея,
О копчёный чайник руки грея,
Ярче всех базарных леденцов —
Дерзкий сброд бездомных мудрецов
В мишуре и рвани кружевной,
В запахах дорожного зверинца —
К вечеру: неузнанные принцы,
По ночам: — Куда тебе со мной?
Белый ворон завтра засмеётся,
Новый город гомоном детей
Вам укажет, из чьего колодца
Напоить усталых лошадей.
Вы пройдёте.
Выгорят афиши.
Вами бредившие сорванцы
Выйдут в люди. Ваши бубенцы
Не изменят мира. Тише... тише.
Девочка, куда тебе со мной?
Опадают рёбра балагана.
Наши женщины стареют рано.
Ни одной счастливой. Ни одной.
Не смотри на вышитые шали
И на блёстки потного седла!
Наших женщин столько обижали,
Что у них улыбки, как смола —
В рот вкипевшая. У них румяна —
Щёки выели, а дети — грудь.
Я тебя бросаю — без обмана.
Я снесу пощёчину. Забудь.
Если есть на свете Божий рай
Там теперь мой старый попугай,
Пол-Европе нагадавший счастье,
Оскорбивший все мирские власти
Бранью на несчётных языках,
Захрипевший на моих руках,
Не жалевший больше ни о ком:
Лишь меня назвал он дураком.
1989 Париж
«Вот и печка нагрета, и мать не корит...»
Вот и печка нагрета, и мать не корит,
И не нужно смертельной отваги.
Но зигзаг Ориона над нами горит,
Как устам — повторенье присяги.
Те же звёзды внимательно смотрят на нас,
Те же сны, затаивши дыханье,
Наблюдают за нами: погас — не погас
В испытаньи бездонным скитаньем.
Те же струны печалят подросших гонцов,
Хоть иную узду обгрызают.
Лютый смерч декабря —
Не отыщешь концов! —
Обелить наши тени дерзает.
Как рискованно след по пороше вести:
Сразу видно, куда и откуда!
Ни слепец, ни певец не укажет пути,
И смеётся с осины Иуда.
Многомерное эхо двухслойных словес
Ищет глотку с улыбкой волчицы.
Но всё те же огни с отдалённых небес
В нас глядят, как озябшие птицы.
1989 Лондон
Вначале появились купола.
Века воды крестов не затемнили,
И колокол из радуг влажной пыли
Нам просквозил несмелые тела.
И бил нещадно — от ребра к ребру,
Спасая наши замершие души,
Но находя лишь след великой суши —
Извилистую тёмную нору.
А мы стояли, странно онемев —
Ораторы, молчальники, блудницы —
Узнать не смея радостный напев.
Но первыми очнулись наши птицы.
И взмыли, и ушли, и далеки
Казались нам для самой меткой пули.
А китежане, их кормя с руки,
Забыли нас.
Уже потом взглянули.
Читать дальше