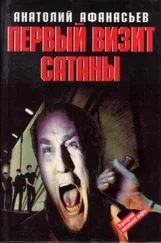Мы живем,
не боги,
не атланты,
под крылом отцовским
не согреты,
в двадцать лет —
матросы и солдаты,
в двадцать пять —
вечерники-студенты.
Нас растили няньки:
бабья жалость
да за будущее
вдовий страх.
Отсветы июньского пожара
полыхают
до сих пор в глазах.
Выросшие в годы голодовок
на макухе
и на лебеде,
не стремимся
жить на всем готовом,
не привыкли
кланяться беде.
В нас жива,
до времени глубоко,
памятью и деда и отца,
революционная жестокость
к разного калибра подлецам.
Не забыты!
Бытом не забиты!
Это мы,
сыны своей земли,
на околоземные орбиты
умные выводим корабли.
Ничего о прошлом не забыли.
Но делами в будущем живем.
Никогда
в труде не подводили,
никогда
в бою не подведем.
Будьте же спокойны,
комиссары!
Ваше сердце —
в молодой груди.
Родину свою
в знаменах алых
сыновьям своим передадим.
Всю ночь вовсю трудились «МАЗы»,
в опоры бил
бетонный вал,
и мастер —
черт зеленоглазый —
перекурить нам не давал.
Вибратор громыхал сурово,
немела цепкая рука,
но он десятибалльным словом
нас за медлительность ругал.
И, понимая неприличность,
но зная о его судьбе,
двадцатилетнюю привычку
ему прощали,
как себе.
В шестом часу затихли страсти:
лотком застыл бетонный вал,
и черт зеленоглазый —
мастер —
нас трижды всех расцеловал.
Александру Зернову, шоферу
3-го таксопарка г. Москвы
Мне повезло:
шофер был разговорчив.
Лицо,
как говорится,
без примет.
Ему не раз заглядывала в очи,
но отступала
фронтовая смерть.
Женат.
Есть сын.
Зовется Николаем.
«В отца призваньем —
тоже за рулем.
Мы из Москвы.
Крестьянам помогаем,
ведь как-никак
в одной стране живем!»
И это так прекрасно прозвучало:
«В одной стране»,
читай
«в одной семье»,
что я подумал:
вот оно начало
любви неугасающей к земле!
Ведь о таких:
«Покой им только снится!»
Но им не спится
до тех пор, пока
веселым озерком шумит пшеница
в брезентом крытых
их грузовиках.
Мне повезло:
шофер был разговорчив,
хотя давно не видел тихих снов.
— Фамилию скажи! —
Сверкнули очи:
— Фамилия сезонная —
Зернов!
Мне нравится дружба мужская.
И как ее ни назови —
суровая или скупая, —
ни в чем не уступит любви.
Я счастлив,
что встретил такую.
Под солнцем,
под вечной луной
пускай веселюсь
иль тоскую,
она —
моя дружба —
со мной.
Пройдя через годы исканий,
окрепнув на тропах крутых,
в забвенье глухое не канет,
Меня не предаст ни на миг.
И солнечней жить мне на свете,
и все одолимы пути
от чувства,
что дружбу я встретил,
которую трудно найти.
А. Балину
На Запад
уходил стрелковый полк.
А рядом с ним,
таким суровым,
бежал мальчишка белобровый:
немногим выше
кирзовых сапог.
Он спрашивал солдат:
«Ты — папа мой!»,
ручонками хватал за голенище,
но с каждым рядом
безнадежней,
тише
звучало горькое:
«Ты — папа мой!»
О, этот голос
хриплый и родной,
от частого повтора монотонный!
А под шинелью
бились учащенней
сердца,
ожесточенные войной.
У каждого
такой же сын иль брат…
С какой печалью
их глаза глядели,
какою нежностью
ладони их гудели,
но пальцы их
впивались в автомат…
Я детство мог забыть,
как сон,
как небыль,
но через годы на меня глядят
глаза солдат,
печальные, как небо,
и небо,
как глаза солдат.
Четверть века таится осколок
в корневище могучей сосны,
четверть века во сне невеселом
бьется зеркало тишины.
Если слышишь,
как стонет подолгу
вечерами в лесу сосна,
это значит:
сырую погоду
нам предсказывает она.
Ах, как хотелось насладиться
завоевателю столиц
тем, что российская столица
придет с ключом
и рухнет ниц!
Столица золотом сияла,
по-лебединому бела,
колоколами клокотала,
а на поклон к нему
не шла.
Минуты были роковые,
пожаром багровел закат,
и испугался вдруг впервые
неустрашимый Бонапарт.
Да!
Мы встречаем тех с поклоном,
кто в гости —
с чистою душой,
но рухнут ниц наполеоны
перед Поклонною горой.
Я говорю вполне резонно!
Ведь согласись,
Россия-мать,
что зря зовут ее Поклонной,
а нужно
Непреклонной звать!
Читать дальше

![Анатолий Приставкин - Первый день – последний день творенья [сборник]](/books/34293/anatolij-pristavkin-pervyj-den-poslednij-den-t-thumb.webp)