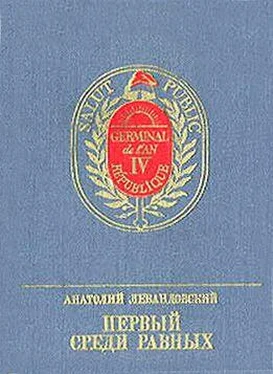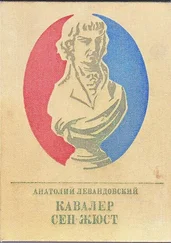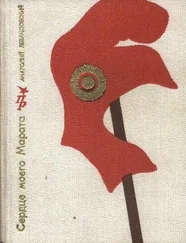Анатолий Левандовский
Первый среди равных
Повесть о Гракхе Бабёфе
(1760–1797)
1
Над Европой стояла удушливая ночь реакции. Венский конгресс расчленил многолетнюю добычу Наполеона согласно требованиям союзников, а Священный союз поставил крест на робких попытках народов вернуть свой попранный суверенитет. «Система Меттерниха» с её жандармерией, тюрьмами и тайными доносами проникала всюду, сковывая людей цепями безмолвия. То тут, то там мрачную тишину нарушали залпы расстрелов. Свобода, драпируясь в окровавленные лохмотья, уходила в подполье. Франция склонилась под скипетром лукавого старца Людовика XVIII, дожидаясь лучших времен. Все те, кто ещё так недавно дерзал, сражался, творил или управлял, теперь спешили укрыться в чужих краях.
Центром эмиграции стал Брюссель, столица Бельгии. Впрочем, теперь Брюссель уже не был столицей, поскольку не было больше и самой Бельгии: решением Венского конгресса она превратилась в часть Нидерландского королевства, призванного, по мысли английских дипломатов, стать «щитом Британии», прикрывающим её с юго-востока. Но как бы там ни было, политические эмигранты предпочитали Брюссель другим городам — он был и близок к «милой Франции», вестей откуда все ждали с постоянным нетерпением, и славился своим либерализмом, позволявшим уживаться бок о бок людям различных политических убеждений.
2
Действительно, здесь образовались как бы несколько замкнутых эмигрантских кругов, каждый из которых сторонился других, а местная администрация, равнодушная к интересам чуждых ей лиц и групп, не вмешивалась в их взаимоотношения, довольствуясь более или менее бдительным надзором за соблюдением предписанных правил.
Элиту эмиграции составляли наполеоновские бароны, графы, префекты и министры. Эти господа презирали всех, кто не был аристократом или крупным чиновником во времена Консульства и Империи. Прогуливаясь по аллеям Королевского парка, они держались так, словно золотые эполеты и аксельбанты всё ещё украшали плечи и отвороты их мундиров; они не реагировали на саркастические замечания и насмешливые взгляды тех, кого величали «чернью», — для них подлинно сущим оставались лишь былое величие Империи и их собственные роли, когда-то сыгранные и навсегда утраченные после 1815 года.
«Чернь» платила им подобным же неприятием и презрением. Бывшие сановники Директории ненавидели режим Бонапарта не в меньшей степени, чем режим Реставрации, а бывшие депутаты Конвента и служащие Революционных комитетов смотрели на правивших вслед за ними, как на изменников и политических оборотней.
Но и внутри каждого круга существовали свои противоречия.
Наполеоновские чиновники и генералы спорили о том, кто из них в прошлом являлся более достойным высокого поста или синекуры. Вспоминая былые обиды, прежние «монтаньяры» постоянно пререкались с «лидерами Жиронды», или «болота»; слова же «дантонист», «робеспьерист» или «эбертист» зачастую снова слышались среди тех, кто считал себя основателями Революционного правительства 1793–1794 годов.
Все эти тени прошлого жили иллюзиями. Одни из них писали мемуары, стремясь обелить себя и очернить своих соперников; другие, никому не признаваясь в этом, надеялись на милость «христианнейшего» короля Людовика XVIII; третьи, пробавляясь сплетнями и слухами, норовили желаемое принять за реальное. И лишь совсем немногие, оставаясь равнодушными к праздной болтовне, продолжали дело, которому служили в прежние годы.
3
К числу последних принадлежал и художник Жак Луи Давид.
Нет, в годы эмиграции он не был борцом и не ходил на тайные собрания, он просто не расставался ни на день с тем, чем жил всегда, — с любимым творчеством.
Революционер в искусстве и в политике, организатор всех выдающихся народных празднеств Республики и член Комитета общей безопасности, готовый «выпить цикуту» вместе с Робеспьером, он и на чужбине остался великим Давидом. Правда, после трагедии термидора, многих месяцев тюрьмы и фейерверка Империи изгнанник-«цареубийца», [1] Так называли депутатов Конвента, проголосовавших за казнь Людовика XVI и изгнанных из Франции декретом от 12.1.1816 г.
оторванный от родины и от учеников, уже не создаст ничего равного по силе и известности «Клятве Горациев» или «Смерти Марата». Но его новые картины на мифологические сюжеты восхитят сотни новых поклонников, а иные из портретов, созданные живописцем в брюссельский период, и сейчас покоряют художественной зрелостью и глубиной проникновения в духовный мир человека.
Читать дальше