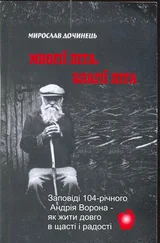Продолжается счастливое рождество,
с медной музыкой колоколов вместо грома,
как счастливое волшебство
возле дома.
Блохи рыжие скачут из печки на землю, звеня.
И на нежную шею рассвета зудится рука у меня.
Стены поголубели.
И стали легки
две ее алебастровых тонких руки.
Нет, не то.
Две руки ее,
кроткие, нежные,
две овечки волшебные и белоснежные
вдруг сошли
с моего удивленного тела.
Небо вспыхнуло и погасло,
и земля из-под ног улетела.
Аллилуйя!
Я прекрасно спасен!
Медный колокол бьет,
звон, звон, звон.
Город весь этим звоном его занесен.
Ах, наверное, молодость это больная
прокричала, блаженствуя и проклиная.
Этот звон, этот звон, этот звон.
Эта боль от стремительной скачки, погони,
как усталость, горька и, как пряник, сладка.
Было белое рождество.
На ладони
черный снег с белым снегом
смешались слегка.
Стихи
(Перевод П. Вегина)
Их нет!
Как будто не было!
Как будто все не в счет.
По коридорам мыслей черный гроб несут,
но это их нисколько не гнетет.
Ведь ночные мельницы поэтов крутятся.
Ах, моя голова — корзина из прутьев:
что намелет — тому простыл и след.
Ну и что ж!
У месяца дешевый свет.
Так видишь ты, поэт. Все луны отгорят.
Нынче балансируй на солнечном луче.
Ты сегодня мяч, забитый в офсайде.
А душа — как камера в мяче
или как зашитый в шкуру собственную пес!
Отзвонили, отзвонили. Все тетради на допрос.
Смерть кроликов
(Перевод П. Грушко)
Воскресным утром, после завтрака,
когда в камине на мышиных флейтах
наигрывает зимний ветер,
воскресным утром, после завтрака,
идти по хрусткому снежку
туда, где клетки.
Перчатку снять, ошпарить ветром кожу
и нацепить перчатку на забор,
как только что отрезанную руку,
курить у дверки.
Потом просунуть мерзнущие пальцы
и вместе с дымом выдохнуть слова
поделикатней, похитрей, послаще,
немного посочувствовать,
покрепче ухватить за шкуру,
рывком поднять над теплою соломой.
Воскресным утром, после завтрака,
услышать едкий запах.
Взять в левую, держать вниз головой,
коситься на коричневые уши,
поглаживать по шерсти,
подуть, поднять и — правой! —
ударить по затылку.
Еще раз ощутить рывок,
попытку к невозможному прыжку,
почувствовать, как тяжела рука,
как появляется слюна под нёбом,
как небо кроличье разверзлось
и горсти шерсти падают с него.
Все кролики — голубоватый венский,
большой бельгийский,
завитой французский
и пегий чешский,
любой бастард с какой угодно кровью, —
все умирают так же бессловесно
и с той же быстротой.
Молчать, нахмурясь, в понедельник,
во вторник размышлять о судьбах мира,
а в среду и в четверг
изобрести машину паровую
или открыть новейшую звезду,
а в пятницу мечтать о том о сем
(о голубых глазах не забывая),
неделю напролет жалеть сирот,
цветами восхищаться,
в субботу выкупаться докрасна
и на устах твоих уснуть спокойно…
Воскресным утром, после завтрака,
услышать запах кролика…

Ода вечности
(Перевод Ю. Левитанского)
Какой-то день, день лета, когда пчелы
настраивают в ульях пианино,
когда вода не принимает никого
и стать ничем
мечтает дождь
не без причины.
Есть что-то большее, чем музыка, в вещах,
когда уж окрыленные мужчины
из заводской вдруг вылетают черноты.
Вступи в нее —
бессмертным станешь ты!
Известно это: черви —
они-то все испортили!
Все в глине копошатся,
часы заводят в дереве.
И кланяется дерево,
и тихо в осень пятится.
Покинуто. Одно.
Оно отдаст вам вечность за сочувствие,
за ласковое слово,
за чье-нибудь лицо,
что сумрак не укрыл.
Гром. Аплодисменты
голубиных крыл.
Падение расстрелянной звезды.
Падение звезды.
Паденье
без начала и конца.
И слышен дроби полет вкруг божьей главы,
и снежно в душе бузины, как в душе скупца.
Читать дальше