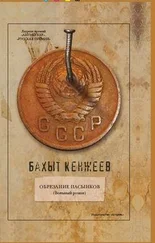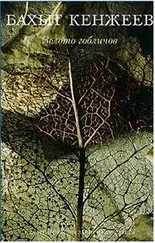И всего-то есть: на устах – печать,
на крючке – уклейка, зверь-воробей
в обнажённом небе. Давай молчать.
Серой лентой обмётанный рот заклей,
ибо в оттепель всякий зверь-человек
сознаёт, мудрец не хуже тебя,
что ещё вчера небогатый снег
тоже падал, не ведая и скорбя,
и кого от страсти Господь упас,
постепенно стал холостая тень,
уберегшая свой золотой запас,
а точнее, деньги на чёрный день.
«Что есть вина, та belle? Врождённый грех? Проступок?..»
Что есть вина, ma belle?
Врождённый грех? Проступок?
Рождественская ель?
Игрушка? Хлипок, хрупок,
вступает буквоед
в уют невыносимый,
над коим царствует
хронограф некрасивый.
Обряд застолья прост:
лук репчатый с селёдкой
норвежскою, груз звёзд
над охлаждённой водкой,
для юных нимф – портвейн,
сыр угличский, томаты
болгарские. Из вен
не льётся ничего, и мы не виноваты.
О, главная вина —
лишай на нежной коже —
достаточно ясна.
Мы отступаем тоже,
отстреливаясь, но
сквозь слёзы понимая:
кончается кино,
и музыка немая
останется немой,
и не твоей, не стоит
страшиться, милый мой.
Базальтовый астероид,
обломок прежних тризн, —
и тот, объятый страхом,
забыл про слово «жизн»
с погибшим мягким знаком.
Да! Мы забыли про
соседку, тётю Клару,
что каждый день в метро
катается, гитару
на гвоздике храня.
Одолжим и настроим.
До-ре-ми-фа-соль-ля.
Певец, не будь героем,
взгрустнём, споём давай
(бесхитростно и чинно) —
есть песня про трамвай
и песня про лучину,
есть песня о бойце,
парнишке из фабричных,
и множество иных,
печальных и приличных.
«В сонной глине – казённая сила…»
В сонной глине – казённая сила,
в горле моря – безрогий агат,
но отец, наставляющий сына,
только опытом хищным богат.
Обучился снимать лихорадку?
Ведать меру любви и стыду?
Хорошо – шаровидно и сладко,
словно яблоку в райском саду.
Пожилые живут по науке,
апельсиновой водки не пьют
и бесплатно в хорошие руки
лупоглазых щенков отдают.
Да и ты, несомненно, привыкнешь.
Покаянной зимы не вернёшь,
смерть безликую робко окликнешь,
липкий снег на губах облизнёшь.
Это – мудрость, она же чревата
частным счастием, помощью от
неулыбчивого гомеопата,
от его водянистых щедрот.
И, под скрип оплывающих ставен
опускаясь в бездетную тьму,
никому ты, бездельник, не равен,
разве только себе самому.
«Есть государственная спесь…»
Есть государственная спесь:
брести за царской колесницей
колонне пленников. Бог весть,
кому она сегодня снится,
страна проскрипций. Чистый лоб
весталки. Сгорбленная выя.
И в цирках каменных взахлеб
гремят оркестры духовые.
Есть долгий звук – и узкий свет.
Прощай. Прости. Позволь на память
одну из самых темных бед
на столике ночном оставить.
Жизнь покачнется навсегда,
заплачет, тихо глянет мимо..
Артезианская вода
мягка, и тьма неопалима,
где опыт, смерти побратим,
распознаватель белых пятен,
как первый снег необратим,
как детский голос, невозвратен.
«Птичий рынок, январь, слабый щебет щеглов…»
Птичий рынок, январь, слабый щебет щеглов
и синиц в звукозаписи, так
продолжается детская песня без слов,
так с профессором дружит простак,
так в морозы той жизни твердела земля,
так ты царствовал там, а не здесь,
где подсолнух трещит и хрустит конопля,
образуя опасную смесь.
Ты ведь тоже смирился, и сердцем обмяк,
и усвоил, что выхода нет.
Года два на земле проживает хомяк,
пёс – пятнадцать, ворона – сто лет.
Не продлишь, не залечишь, лишь в гугле найдёшь
всякой твари отмеренный век.
Лишь Державин бессмертен, и Лермонтов тож,
и Бетховен, глухой человек.
Это – сутолока, это – слепые глаза
трёх щенят, несомненно, иной
мир, счастливый кустарною клеткою, за
тонкой проволокою стальной.
Рвётся бурая плёнка, крошится винил,
обрывается пьяный баян, —
и отправить письмо – словно каплю чернил
уронить в мировой океан.
«Любовь моя, мороз под кожей!..»
Любовь моя, мороз под кожей!
Стакан, ристалище, строка.
Сны предрассветные похожи
на молодые облака.
Там, уподобившийся Ною
и сокрушаясь о родном,
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу