Переселение застыло
в моих глазах,
в ранах моей молитвы…
Мир был когда-то прекрасен
под золотым крестом.
А потом были горькие травы —
козобород и резак —
люди ели отраву.
Спали мало, как птицы,
как волки в предчувствии битвы,
мы клыками цеплялись за стебли,
за жизнь, за молитвы.
Но поля полыхали
огнями тюремных оград,
за которыми мертвые,
как и живые, молчат.
Мир оставил их вопли.
Лишь мечетей унылый аккорд…
Даже желтые степи
от горя и боли оглохли.
Слышал Ты наверху,
как мой гордый,
мой твердый народ
прошептал одиноко молитву
в зловещей ночи?
Когда дьявол из мрака поднялся,
его палачи
без огня пожирали
сырыми младенца и мать.
Кто-нибудь попытался
исчадия ада унять?
Мир молчал,
только я надрывался,
под тяжестью зла,
и держал, сколько мог,
моей Родины колокола.
Их давили о землю
безмолвную,
мой Армянин
был растерзан врагами
и продан коварством немым.
Как же долго все это продлится?
Как зла тишина,
когда в желтых пожарах
дымится родная страна
и сгорают деревни.
Как долго опять и опять
нашим душам с тюремных полей
в небеса воспарять…
За какие грехи,
за какие заслуги
вручены моим людям
распятые руки
и проклятые дни,
как святые дары?
Почему ты смеешься
над искрами жизни —
светлячками на склоне
библейской горы,
величавой и мудрой?
Там лазоревым утром
в седину моих дедов
праматерь земля,
свой узорчатый свод,
как вершину Масиса,
наши скорбные дни
до небес подняла…
Знаешь ли, сколько боли
теперь в глубине моих склонов,
сколько горьких стенаний
в небесных истоках души?
По дорогам чужим их скитается
пять миллионов.
Еще пять миллионов
по братским могилам лежит.
О, Господь мой,
когда же народ
в Твоем солнечном круге,
в Твоем образе светлом
воспрянет,
и, с неба взглянув,
свои чистые склоны
гора нам протянет, как руки,
всем нечаянным беженцам
счастье и веру вернув.
Река Ипостась протекала под круглым холмом.
Он круглым был сбоку и сверху, но снизу подрезан.
Она заострялась, как лезвие синим железом,
к закату кровея, к восходу – лучом серебрясь.
Там лес подрастал и лианы качались на соснах,
кидаясь тенями и воплями злых какаду,
а берег блистал, словно меч, в отражении звездном,
и снова краснел, растворяясь в небесном стыду.
А речка текла, огибая холма волосатость,
ершистость, как ноздри разинутых ввысь тополей,
всех пенных напитков
и бликов шипучих игристость
вливал в ее воды сбежавший с вершины ручей.
Все вроде бы есть для начала любой растомани:
черешен и яблонь, шиповников, тины, крапив,
полыни, малины, и пахнущей сахаром дряни,
туманом ползущей по воле непаханых нив.
Все вроде готово. Иголки снесли в муравейник.
Проухала ночь. Прохрустел в скорлупе соловей.
Луна проступила, и волк потащил свой репейник
в незримую тьму, обнажая ее до теней.
2014
Однажды с ним заговорив,
не сможешь мыслить по-другому.
Пытался возвратиться к дому,
но зренье спутало шаги.
Земля коварней океана —
и надо ль каждого барана
спасать от смерти и тоски?
Так начинаются грехи,
со слов о совести, со сказок.
И никаких тебе подсказок
и направляющей руки.
Идешь, бредешь самим собой,
зато с подзорною трубой.
Земля не тверже,
чем вода
Земля не тверже, чем вода.
Пройди по ней – и сделай чудо.
Все остальное – суета.
Кто оказался прав?
Отсюда
и начинается беда,
и все проклятые вопросы.
Но гусь-хрустальные морозы
скользят, ступив на гладь пруда
своей веселой красной лапкой.
И каждый волосок под шапкой
земного требует суда.
Корреспондент многотиражной газеты —
птица подопытная, мышь летучая —
курит дешевые сигареты
и ждет подходящего случая,
чтобы, летая по темной комнате
между тысячами перекрещенных струн,
вспомнить о юности, о совести
и устроить шум,
броситься в запретные сети,
затронуть струны чужой души,
но вдруг понимает,
что на этом свете
для жизни все способы
одинаково хороши.
Я памятник тебе воздвиг…
А ты слиняла.
И даже не звонишь мне на работу.
Не то чтобы залезть под одеяло
и проявить приятную заботу.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
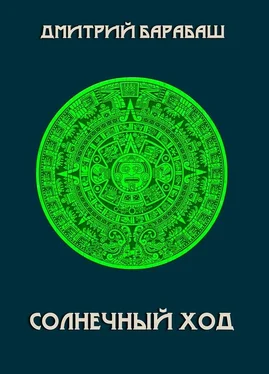





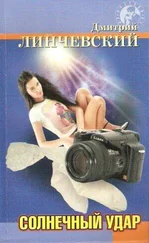

![Дмитрий Самохин - Солнечная Казнь [litres]](/books/409854/dmitrij-samohin-solnechnaya-kazn-litres-thumb.webp)


