Однажды ко мне приехали западные немцы (точнее немки), учившиеся в Пушкинском (ГИРЯ).
Мы набили трубочку анашой и беседовали о вечном, как вдруг в квартиру ввалился крепко выпивший товарищ (ныне очень известный журналист) и, не сумев найти общий язык со мной и моими подругами, сильно осерчал. Так сильно, что побежал на Садовое за ментами. Последовавшие за этим события и легли в основу этой зарисовки.
Ты был всегда немого строг,
когда сдувал с ладони осень.
Ты был, как памятник, серьезен
и безупречно одинок.
Ты, помнится, лепил бумажки,
чтоб скрыть с настенного панно
девчонок озорные ляжки
и нос сеньора Сирано.
Как будто вздумал извиниться
перед ментами Ренуар —
с трудом газетная страница
прикрыла офигенный шар
земной, невыдуманной жопы,
в натуре солнца в тыщу стрел
(Амура).
Ах, если бы узнали копы,
какой ты прятал беспредел!
Мы мирно покурили шмали
с врагами красного труда,
а ты решил, что нас поймали
и нам не избежать суда.
Ты был так мил в своем наитьи,
счищая полчища улик:
«Творите, ангелы, парите!
Я к вашим каверзам привык».
Ты выметал страну до кости,
до звона тротуарных плит.
Но не было ни капли злости,
ни осуждений, ни обид.
Я так скучаю по Колхозной,
по Сухаревке, по тебе,
и, как и прежде, о серьезной
любви и ласковой судьбе.
Чем больше близких оставляет нас
Чем больше близких оставляет нас,
тем мир иной становится нам ближе,
и выставляет, словно напоказ,
все то, что не проистекает свыше.
Как ты там поживаешь,
где уже не живут?
Что ты там пожинаешь
с облетевших минут?
Жизнь прошла, как приснилась,
и в холодном поту
ты проснулся на милость,
ты родился по ту…
Я пока что хромаю,
и, творя чудеса,
понимаю, что раю
не нужны голоса.
Там достаточно песен,
до отрыжки – любви.
В плюше зрительских кресел
сладко спят соловьи.
Отрезвевшие лица,
обескрыленный мир.
Ты хотел мне присниться,
выбиваясь из сил.
Рассказать, перечислить,
помочь, остеречь.
Но мне хочется мыслить
и попробовать речь
на зеркальность, изломы,
на вещественность слов.
Подстели мне соломы,
чтобы в стойле ослов,
чтобы в зрительном зале,
чтобы в облаке снов,
мы, смеясь, изучали
те основы основ.
После сорока
первый уходит в секту,
второй – в запой,
третий – вообще.
Шестой – остается собой.
Что лучше?
Я так и не могу разобраться,
кости мешают взобраться
и посмотреть оттуда:
Так ли скользит минута?
Так ли стучат года?
Так ли течет вода?
Кто поменялся с нами
за тысячи лет местами,
или мы стали сами,
сплетаясь шестью хвостами,
раскручивать синий шар?
Или на этом пике
все люди равновелики?
Лики слепят, как блики
от промелькнувших фар.
Или на этом месте
лучше забыть о чести
и полететь в пустую
солнечную трубу.
Кто-то играет в черви,
кто-то меняет крести,
кто-то дудит на саксе,
вывернувшем губу.
Нарисуй, дружок,
не кружок, а дверь.
На засов запри
и навесь замок.
А под ней казенный
лежит портфель…
На него больной головой прилег
нашептавший нас на досуге Бог.
И не сед он даже по тем местам,
где, к стыду сказать,
не бывать устам,
потому что нет подходящих слов
у бредущих снизу земных послов,
потому что шаг
башмаков бескрыл
нестерпимым скрипом
сырых перил,
от которых лестничный
тот пролет
воспарил над сонмом
кирпичных сот.
До него дойти, как взлететь во сне
и проснуться бабочкой на стене,
под подъездной лампочкой
в потолке
на кристально
выветренном плевке.
Наверное, я придумал себе богов,
как жаждущий славы —
венки, ордена, чины,
памятники, дураков,
печаль, скользящую
по долине твоей щеки
рекой,
которую можно поймать,
словно ящерицу, рукой…
Играться потом с хвостом,
поститься, жениться,
пускаться в карьерный рост.
И хвост тот в руке будет биться,
как та синица
в памятник,
украшающий тот погост.
Проведи рукой по окончаниям.
Чувствуешь за ними продолжение?
Нежных пальцев легкие касания
возвращают к жизни отражения,
и они, срываясь с амальгамы,
мотыльками вьются в лунном свете,
бабочками солнечной поляны.
В колпачках сачков хохочут дети.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
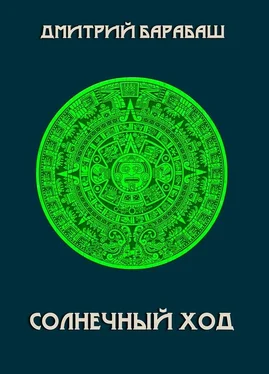





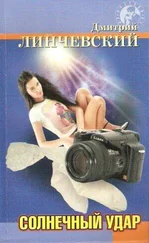

![Дмитрий Самохин - Солнечная Казнь [litres]](/books/409854/dmitrij-samohin-solnechnaya-kazn-litres-thumb.webp)


