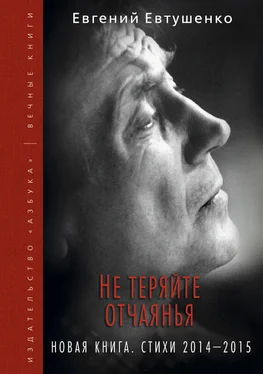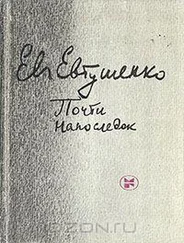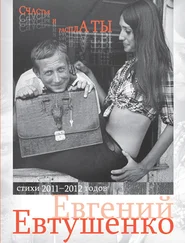Раскаленный песок,
и горят от испарины лошади поры,
и москиты вальсируют в бархатных гротах
ноздрей,
когда пеной с боков лошадиных
ошпарены шпоры
и ковбою так хочется снова стихи почитать
поскорей.
У девчонок из дома веселого смыты сейчас
макияжи,
это слезы, светясь,
по щекам на концерте стекли.
Вот невесты Невады,
застенчиво выставленные не для продажи,
и смертельно хотят за ковбоев,
которые все-таки пишут стихи.
24 февраля 2015
За Пушкина как-то обиделась наша
учительница –
Сусанна
Иосифовна:
«„Капитанская дочка“ сусальна,
как ты написал в своей буйной контрольной,
неистовый Женя,
не чувствуя силы такого жестокого
выраженья?!!
Но это была совершенно другая эпоха,
когда не считались слезливостью слезы
и люди не прятали горького вздоха,
да и анекдоты еще не бывали настолько
циничны
и даже дуэли, хотя и кончались убийствами,
были сценичны…»
Я ей возразил,
и в настырности был я не слабенький:
«Но этот Гринев –
с Пугачевым его не сравнить –
слишком сладенький…
Конечно, он был и бродяга и вор,
а не
сынуленька маменькин,
видя бессмертье и в черном вороне…»
Вздохнула Сусанна Иосифовна
раз десятый
по несовременному снова,
как будто была мной обиженной мамой Гринева:
«По-моему, Женя, ты переначитан для вашего
класса…
А я вот Гринева люблю.
И прости, но с тобой не согласна.
Наивен он был по сегодняшним меркам,
конечно.
Но верен он был и присяге, и даже еще
не надеванному колечку.
И не побоялся не поцеловать пугачевскую руку
И выдержал, не потеряв своей чести,
с любимой разлуку…
Ты рвешься в поэты? Случается, их убивают.
Великих поэтов из швабриных не бывает».
25 февраля 2015
Мы вырастали в разгромах, разносах,
да вот успели успеть.
Боже, как хочется с Марком Розовским
снова в обнимку спеть.
Мы растеряли друг друга. Как жалко
дружбы всех наций живой.
Помню я польские польта вповалку
с русскими на Моховой.
Венгры и чехи, что нам помешало,
в братстве себя воспитав,
ставить на сцене земного шара,
только без танков, – спектакль?
Чистой, беззлобной была наша смелость –
просто веселая злость.
Пусть не сбылось все, чего нам хотелось,
все-таки что-то сбылось.
1960–2015
«Я как-то был с красавицей-полячкой…»
Я как-то был с красавицей-полячкой
в окраинном театрике ночном.
Была от предвкушения пылавшей
она, шепнув мне: «Жди, пока начнем!»
С актером знаменитым разведенка.
Она влюбилась, видимо, в меня,
во мне и в ней все было так взведенно,
что мы изнемогали от огня.
Он в нас ворвался, он внутри взорвался
от соприкосновенья взгляда глаз.
Но был спектакль, и так я волновался,
как будто он решит судьбу сейчас.
Тогда была варшавская цензура
не лучше нашей. Но ее засов
уже не мог сдержать мятежность хмуро
после ночных двенадцати часов.
Спектакль ночным был вовсе не случайно.
Она вела на сцене свой урок.
Учительницей, строгой чрезвычайно,
она была, и взгляд был так жесток.
Но боже мой, что сделалось с глазами,
а были изумрудно-зелены,
и вдруг косыми стали, и я замер –
она была как дочь другой страны.
И не какой-то, а Китая Мао
и с гонором надменной чепухи,
цитатничек краснюсенький вздымая,
она читала русские стихи.
И все китаеглазые поляки,
Полтаву помня с многим заодно,
читали в зал, где ржали все гуляки,
как хор: «Белеет парус одино…»
Я зла в душе не прятал многолетнего,
откуда это вырвалось, и вдруг?
Ну почему, за что издёв над Лермонтовым?
Ведь никакой он власти не был друг?
За что, сраженный пятигорским выстрелом,
в свои – подумать! – только двадцать семь?
За то, что русский был в той пьеске высмеян,
хотя за первый стих в тюрягу сел?
Она все поняла. Но опечаленно:
«Но как же быть театру без сатир?
Аллюзий и у вас полно с отчаянья.
А националисты – все! Весь мир!»
Заплакала. А я почти неистово:
«Вот если бы когда-нибудь мы все,
Все стали бы над-националистами,
Стал воздух бы другой везде-везде».
Я был всегда и в иностранок влюбчивый,
а тут любовь, быть может, упустил.
Но я не предал вас, Михаил Юрьевич,
хотя у вас в глазах: «Я бы простил».
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу