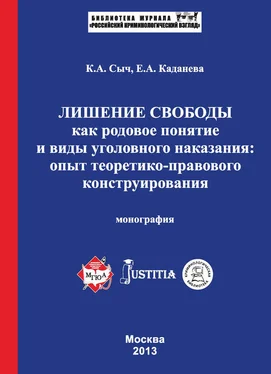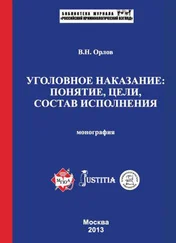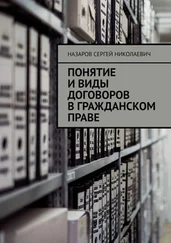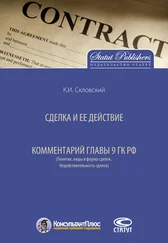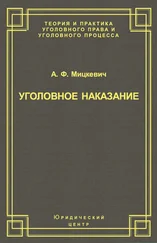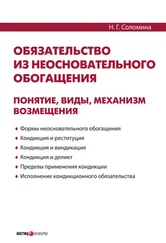Очевидную абсурдность такого неизбежного из рассматриваемой концепции вывода заметил еще Н. С. Таганцев. Утверждая, что уголовное наказание является страданием во всех формах своего проявления, профессор Н. С. Таганцев, впадая в явное противоречие, писал вместе с тем следующее: «… Необходимо отделить от наказания нравственные муки, угрызения совести, испытываемые преступником, хотя бы они были столь велики, что для их прекращения он спешил отдаться в руки правосудия, чтобы выстрадать свою вину» [135]. Эти страдания преступников Н. С. Таганцев называл квази-наказанием.
Такого же рода недостаток характерен и для позиции профессора Н. Д. Сергиевского, который утверждал, что причиняемое преступнику страдание не принадлежит к сущности наказания. В другом части своей работы он пришел к выводу, что наказание есть страдание [136].
Профессор С. П. Мокринский в этом отношении идет еще дальше в своих рассуждениях применительно к категории «страдание»: «Слуга, страдающий похмельем от выпитого тайно барского вина, грабитель, ушедший с помятыми боками; убийца, в раскаянии самовольно нанесший себе тяжелую рану, – юридически не могут считаться наказанными, и само зло, постигшее их, не подлежит зачету в наказание: ему недостает существенного признака – государственного принуждения к страданию» [137].
Явное противоречие наблюдается и в позиции М. Д. Шаргородского. Справедливо утверждая, что уголовное наказание обладает свойством причинять преступнику страдание, он, вопреки логике своих рассуждений, неожиданно включает само страдание в содержание уголовного наказания. При этом не обращает внимание на то совершенно неоспоримое обстоятельство, что страдание как психическое состояние человека может проявляться только в результате взаимодействия наказания и личности в процессе применения и исполнения уголовного наказания. Больше того, уголовно-исполнительной практике известны многочисленные случаи, когда даже осужденные, отбывающие наказание в виде лишения свободы, не испытывают по различным причинам, требующим специального анализа [138], страданий.
Если придерживаться позиции указанных авторов, то следует сделать вывод, что в отношении этих лиц уголовное наказание нельзя считать примененным и исполненным, поскольку осталось нереализованным его основное содержание – страдание.
Видимо, нет смысла даже гипотетически предположить, к каким отрицательным последствиям может привести ориентация судебной и уголовно-исполнительной практики на такое понимание уголовного наказания.
Отмеченное противоречие, на наш взгляд, явилось результатом того, что авторы указанных концепций, сами того не замечая, смешивают два самостоятельных аспекта исследования уголовного наказания. Если следовать параметрическому (нормативно-доктринальному) описанию и рассматривать уголовное наказание как правовое явление, то включение в его содержание страдания как психического состояния человека не представляется возможным. Нормативно-доктринальное определение уголовного наказания должно содержать лишь указание на объективное его свойство причинять преступнику страдания. Результат реализации этого свойства уголовного наказания находится за пределами нормативно-доктринального его определения. Но если сменить аспект исследования и рассматривать уголовное наказание во взаимодействии с личностью человека, в отношении которого оно применяется, то причиняемое им страдание уже нельзя отнести к квази-наказанию. Авторы рассматриваемых концепций в пределах сугубо нормативно-доктринального определения уголовного наказания, когда оно находится в так называемом «статическом» состоянии, пытались показать его взаимодействие с личностью человека и потому впали в неразрешимое противоречие.
Следует подчеркнуть, что отмеченное противоречие характерно для всех нормативно-доктринальных определений уголовного наказания, авторы которых пытаются определить в них те или иные моменты, характеризующие взаимодействие наказания с личностью преступника.
В этой связи нельзя согласиться с позицией М. Д. Шаргородского, включающего в содержание уголовного наказания, наряду со страданием, и воспитание. «Содержанием наказания являются… как кара, так и воспитание, – писал М. Д. Шаргородский, – только при наличии обоих этих элементов имеет место наказание» [139].
В педагогической литературе под воспитанием понимается либо процесс определенной деятельности, либо ее результат [140]. Ни в одном из этих качеств воспитание не может быть включено в содержание уголовного наказания. Конечно, перед уголовным наказанием могут ставиться конкретные воспитательные цели; но ведь цель как предполагаемый результат деятельности не может включаться в содержание того средства, с помощью которого она достигается. На уровне нормативно-доктринального определения уголовного наказания воспитание как результат должно найти отражение в целях его применения, которые предстоит еще достичь. Воспитание как процесс происходит в результате деятельности тех общественных институтов и отдельных личностей, которые располагают всеми необходимыми педагогическими методиками.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу