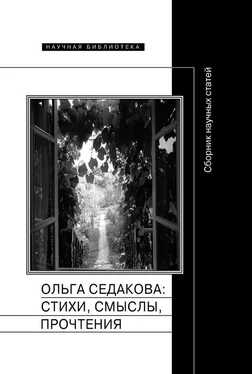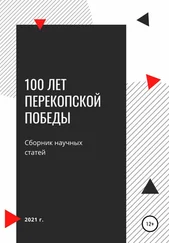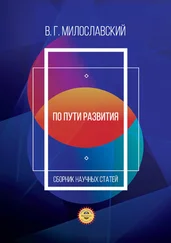Там же.
В описании характерных черт литургической поэзии Седакова выделяет аспекты, которые могут быть применены и к анализу ее собственных стихов. «Я очень люблю саму форму литургической поэзии, византийское плетение смыслов и их оттенков. И еще особое развитие чувства, никогда не холодное, но чуждое всякой аффектации и сентиментальности» ( Седакова О. Вещество человечности, 4: 352). К вопросу отсутствия рифмы в древнерусской поэзии и псалмах см.: Лотман Ю.М. Анализ поэтического текста // Лотман Ю.М.О поэтах и поэзии. СПб.: Искусство – СПб., 1996. С. 18–252. С. 68. См. также: «She never was attracted by an emphatic style with willfully deformed imagery and staccato movements. Her style is inward, elusive and simple» ( Polukhina V. Op. cit. P. 1448). Перевод: «Ее никогда не притягивал эмфатический стиль с умышленно деформированными образами и неожиданными скачками. Ей свойствен невычурный, спокойный и простой стиль, обращенный внутрь».
Помимо однозначно христианских коннотаций в мотиве «хранящейся в душе памяти о иной жизни» Седакова видит и отголоски эллинской культуры. «<���…> Эллинское чувство: чувство души, которая не связана с плотью и кровью, которая находится где-то вдали, вдали самого человека. Гостья душа, пришедшая издалека и хранящая память об этом своем далеке, о Другом, до конца земных дней» ( Седакова О. Искусство как диалог с дальним, 4: 327).
Эту же мысль можно повернуть и в другом направлении: так как поэтическое слово у Седаковой причастно по своей природе к доязыковой тишине, оно несет в себе часть божественной тишины и не стремится к описательности. «The silence within words is the fundamental principle of hesychasm, and for Sedakova, it is where poetry begins» ( Polukhina V . Op. cit. P. 1447). Перевод: «Одним из фундаментальных принципов исихазма считается тишина внутри слов, из этой тишины и выходит для Седаковой поэзия».
В защиту «поколения 80-х» от критических обвинений в якобы умышленном усложнении и герметичности формы Эпштейн указывает на неготовность читателя принять непривычное: «Как свидетельствует многовековая история восприятия сложных поэтических явлений: от английских “метафизических” поэтов и “темного” испанца Гонгоры до “заумного” Хлебникова и “путаного” Пастернака, “непонятность” – это первая реакция на “непривычное”, та форма, через которую новое поэтическое содержание начинает раздвигать границы нашего понимания» ( Эпштейн М. Поколение, нашедшее себя (О молодой поэзии начала 80-х годов) // Вопросы литературы. 1986. № 5. С. 44).
Применяя терминологию Ю.М. Лотмана, можно говорить о наличии в «Старых песнях» минус-приемов, то есть «систем[ы] последовательных и сознательных, читательски ощутимых отказов». См.: Лотман Ю.М. Анализ поэтического текста. С. 36. Так и термин «нематериализованная» часть поэтического текста восходит к Ю.М. Лотману, который подчеркивает вполне реальный характер этих нематериализованных текстуальных элементов (минус-приемов) в структуре текста. Там же. С. 39–40.
Бавильский Д. Указ. соч. С. 110. Излюбленные Седаковой мотивы ставень, дверей, порогов, врат, обозначающие межпространственные, пограничные места, заслуживают отдельного внимания.
«Но вспышки этого нового неба и новой земли, этот мир побежденной смерти, как мы знаем, не переносится в «иной мир». Возможность их здесь и составляет благую весть» ( Седакова О. Свобода как эсхатологическая реальность, 4: 29).
Примером послужит и стихотворение «Вениамин»: «О Творец, в Твоих ущельях, / в тишинеТвоих пустынь, / на раскачанных качелях / звезд, со стен Твоих твердынь» (1: 368).
О сложности передачи языком доязыковых смыслов пишет Седакова в эссе «Творчество и вера. Время и язык. Автор и читатель», отводя при этом поэтическому языку особенную роль: «Словам, между прочим, не так-то легко перейти через порог семантики – к непосредственному смыслу. Поэтическое слово, может быть, тем и отличается от бытового, что оно возникает из доязыкового, внеязыкового смысла; и если этот смысл, этот опыт не просвечивает сквозь стих, мы вправе отозваться о нем, как Гамлет: Слова, слова, слова» (4: 218).
«Что делает он там, где нет его? / Где вечным ливнем льется существо», – ставит риторический вопрос Седакова в стихотворении «Стансы вторые. На смерть котенка» (1: 279). Рефлексии на тему встречи со своим истинным Я в потусторонней жизни развертываются в стихотворении «Болезнь»: «– Нет, это не свет был, нет, это не свет, / не то, что я помню и думаю помнить. / Я верю, что там, где меня уже нет, / я сам себя встречу, как чудный совет, / который уже не хочу не исполнить» (1: 108).
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу