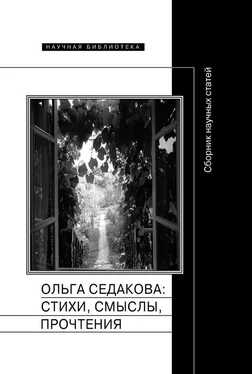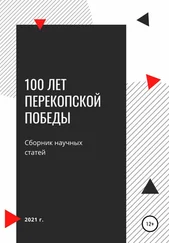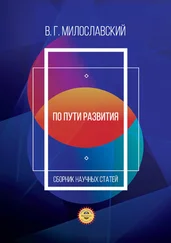Дихотомия «здесь – там» преодолевается Седаковой в этом же стихотворении «Памяти Александра Меня» чуть дальше: «Вашей радости названье / выглянет, как солнце в облака: // это называется любовью, / для которой нет чужих» (1: 374). Любовь как воссоединяющая сила, неоднократно воспетая поэтами, облекается Седаковой в природную метафору: она выглядывает, как солнце сквозь облака. Соотношение творящей любви со светом и их осязаемость в природных явлениях часто встречаются в стихотворениях Седаковой. Так, стихотворение «Начало» из сборника «Элегии» описывает состояние первозданности земли, когда невинное еще человечество воспринимало божественность через / сквозь природные явления. «<���…> над размахом пространства / над вниманьем холмов <���…> вдруг он явился: / свет, произносящий, как голос, / но бесконечно короче / все те же слоги: / Не бойся, маленький! / Нечего бояться: / Я с тобой» (1: 386).
Стоит обратить внимание на то, что курсив имеет в творчестве Седаковой особый семантический ореол, так как используется поэтом редко и в основном для обозначения сложных метафизических понятий. (Благодарю Марию Хотимскую за ценное наблюдение.)
Примеры ухода от обыденного, примеры переоценки систем устоявшихся, часто пустых квазиценностей и смыслов в творчестве Седаковой не надо понимать как отрицание жизни как таковой. Наоборот, Седакова систематично развивает мысль о ценности земного бытия, о «жизни как счастье» (см. работу «Лучший университет», 4: 287). Трактуя Данте в эссе «Мудрость Надежды: Данте», Седакова подчеркивает положительный импульс, заложенный в искусстве в целом и конкретно в поэзии. Поэзия sui generis служит тому, чтобы «вывести человечество из его настоящего состояния несчастья и привести его к состоянию счастья» (4: 314). Мысль о расширении сознания обращением к иному и дальнему встречается в эссе Седаковой «Искусство как диалог с дальним»: «…но искусство занято дальним. Оно говорит с дальним, и даже в ближнем оно ищет дальнего» (4: 323). Или же: «…дальним, на мой взгляд, постоянно и принципиально занято искусство. Миром как дальним, человеком как дальним, самим собой как дальним» (4: 326).
В рамках нашей работы термин «материя стиха», заимствованный у Ефима Эткинда из его одноименной монографии, употребляется в первую очередь для обозначения способов материальной (в нашем случае языковой) передачи содержания, формальной организации поэтического текста. Этим термином Эткинд подчеркивает глубочайшую и нерасторгаемую связь смысла и формы (духа и материи), которая проявляется в поэтическом тексте как в «живом организме». «<���…> [П]оэзия, как идеологическая форма познания мира, от этой материи неотделима: вне слова, звука, ритма – <���…> – в поэтическом произведении нет ни идеи, ни даже просто смысла <���…>». См.: Эткинд Е. Материя стиха. Paris: Institut d’etudes slaves, 1978. С. 9.
Философская и филологическая эссеистика Седаковой послужит нам в первую очередь для осмысления общего контекста поэтических произведений.
Следуя мысли Флоренского, «вся культура может быть истолкована как деятельность по организации пространства» ( Флоренский П.А. Анализ пространственности (и времени) в художественно-изобразительных произведениях // Флоренский П.А. Статьи и исследования по истории философии искусства и археологии. М.: Мысль, 2000. С. 112).
Седакова О. Пустота: кризис прямого продолжения. Конец быстрых решений (4: 481).
Там же. С. 478. O поэтике Седаковой в общих чертах см.: Polukhina V. Olga Sedakova // Russian Women Writers / Ed. C.D.Tomei. New York: Garland, 1999. Vol. 2. P. 1445–1450; Kelly C . A History of Russian Women’s Writing 1820–1992. Oxford: Clarendon Press, 1994. P. 423–433.
Рассматривая структуру цикла «Азаровка» и его связь с музыкальной композицией сюиты, Елена Айзенштейн выделяет «красоту природы» как объединяющий мотив цикла. Седакова включает в цикл двенадцать стихотворений, что, по мнению Айзенштейн, соответствует календарному году. Однако главным временным определением остается лето. См.: Айзенштейн Е. Из моей тридевятой страны. Статьи о поэзии. М.: Издательские решения, 2015. С. 178.
В своей статье «Семиотика истории: Б.А. Успенский и О.А. Седакова» Александр Марков проводит параллели между циклом «Азаровка» и семиотической работой Успенского «Historia sub specie semioticae», отмечая синхронное появления на свет этих двух произведений. В статье обсуждается возможное преодоление и расширение ситуативной природы значения и топологического характера знака – центральный вопрос работы Успенского. Марков развивает мысль, что в «Азаровке» Седаковой удается реализовать тот самый «переход от топологии повседневности к самой истории в форме перехода от фольклорных и бытовых представлений к христианcким и научным <���…> представлениям о мире и человеке». См.: Марков А. Семиотика истории: Б.А. Успенский и О.А. Седакова. [Электронный ресурс.] Режим доступа: http://syg.ma/@alieksandr-markov/siemiotika-istorii-b-a-uspienskii-i-o-a-siedakova (дата обращения: 15.10.2015).
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу