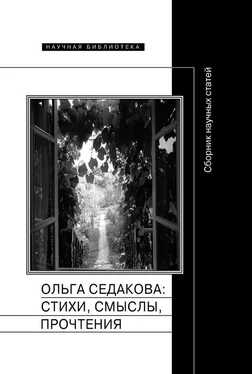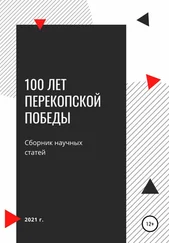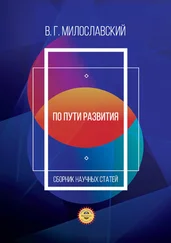Из двенадцати зарисовок от общего метрического решения отклоняется лишь третье стихотворение «В кустах», которое передает монолог души, проживавшей когда-то в тех окрестностях.
Описывая семантический ореол амфибрахия, М.Л. Гаспаров выделяет тему «видения и сна», которые в скрытой форме присутствуют и в этом цикле Седаковой. Однако Гаспаров обращается преимущественно к примерам 3-стопного амфибрахия. См.: Гаспаров М.Л. Метр и смысл. Об одном из механизмов культурной памяти. М., 1999. С. 135–136. В нашем случае значимее кажется определение амфибрахия, данное И. Бродским, который, подчеркивая нейтральность этого размера, предпочитал его для своих поздних рождественских стихов: «Он (амфибрахий. – К.М. ) снимает акценты. Снимает патетику. Это абсолютно нейтральный размер» (Точка отсчета. Беседа Иосифа Бродского с Петром Вайлем // Бродский И.Рождественские стихи. Издание 4-е. М.: Независимая газета, 1998. С. 59).
Поэтическое освоение Седаковой мотива «книги природы» рассматривается в статье Йенса Хертля на примере стихотворения «Весна». Указывая на суб– и интертекстуальные аллюзии, Хертль приходит к выводу, что Седакова реализует в структуре этого стихотворения концепцию неразличимости систем природы и искусства. Следовательно, владеющая языком природы героиня-поэт не воспринимает знаковую систему природы как герметичную и непонятную. Несмотря на успешное в этом стихотворении «прочтение» природных явлений, не стоит забывать, что дисгармония в соотношении природы и действительности (жизнеустройства) – это данность, которая окружает современного человека. См.: Hertl J. Ol’ga Sedakova: Vesna // Die russische Lyrik / Hrsg. v. B. Zelinsky. Köln; Weimar; Wien: Böhlau, 2002. S. 400.
Седакова О. Похвала поэзии (3: 51).
Динамика в пейзажах из «Азаровки» противостоит статичности, типичной, например, для реалистических пейзажей, о которых критически отзывается Седакова: «Я хорошо помню, как в детстве мне казался каким-то не по-хорошему “непохожим” реалистический пейзаж. Он пугал, как протез. Там было сделано что-то ужасное с тем, что видно на самом деле. Прежде всего, его остановили. Его вынули из чего-то, без чего оно не может жить, как рыба на берегу, – из времени, которое мы явно видим в том, что видим. Из движения, из дыхания, из перебегов зрительного внимания, из вспышек и затмений зрительного луча… Его вынули из энергетической картины притяжений и отталкиваний, излучений и вбираний. Вынуть вынули, но выдают за то же – потому-то оно и ужасает, как муляж или протез» ( Седакова О. Путешествие с закрытыми глазами. Письма о Рембрандте. [Электронный ресурс.] Режим доступа: http://magazines.russ.ru/continent/2006/130/se30.html (дата обращения: 20.10.2015)).
При анализе цикла «Китайское путешествие» Д. Бавильский отмечает, что «Седакова моделирует ситуацию отсутствия времени – она его вынимает, раскладывая различные страны и эпохи, как пасьянс, на одной плоскости, по одной линии-черте» ( Бавильский Д. Маленькая вечность // Постскриптум. Литературный журнал / Под редакцией В. Аллоя, Т. Вольтской и С. Лурье. 1996. Вып. 3 (5). С. 110).
Прозрачность» и «чистота» являются в поэтике Седаковой идеальными качествами абсолютной формы, в которой олицетворяется свобода. На примере пушкинской строки «На заре… алой / Серебрится снежный прах» Седакова развивает мысль об идеальной чистоте поэтического слова: «Вот что в конце концов я назову свободой: возможность предпочесть чистоту всему прочему. Не поставить никакого эпитета, если единственно правильный не приходит на ум» ( Седакова О. Разговор о свободе, 4: 52).
К теме «поэтического диалога» с Пушкиным см.: Sandler S. Pushkin among Contemporary Poets: Self and Song in Sedakova // Two Hundred Years of Pushkin / Еd. J. Andrew and R. Reid. Amsterdam; New York: Rodopi, 2003. P. 175–195.
Описывая «эфирную чистоту» слов Хлебникова, Седакова прибегает к сравнению их с элементом воды: «Не только отрешенность, бескорыстие или невинность – скорее, прозрачность, физическое свойство воды или минерала» ( Седакова О. Путешествие в Брянск. Хроника без претензий // Седакова О. Два путешествия. М.: Логос, 2005. С. 49).
«Это не визионерские путешествия в рай или в ад, в земли чистые и нечистые, – отмечает К. Голубович в предисловии к книге Седаковой «Два путешествия», – это и не привычные экзотические путешествия за/границу. Граница, на и за которую здесь путешествуют, изначально незаметна <���…>» ( Голубович К . Путешествуя в путешествия // Седакова О. Указ. соч. С. 7).
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу