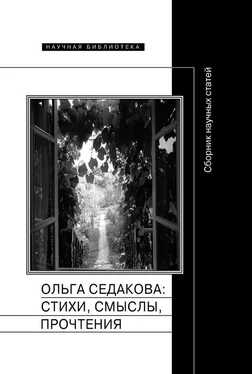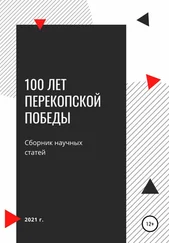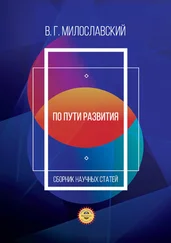«Такие случаи пережитой, “прозрачной” реальности, как бунинское “институтское платье” [из стихотворения «Там, в полях, на погосте». – К.М. ], лишний раз напоминают, что мир – не пустое, негодное, сплошь профаническое пространство, откуда все святое вынесено в специально предназначенные для этого зоны и моменты времени, в храм, в ритуал…» ( Седакова О. О времени. О традиции. О писаном и неписаном праве, 4: 227).
Лотман описывает первые рифмы, появившиеся в говорной поэзии, как корневые или грамматические ( Лотман Ю.М . Указ. соч. С. 68).
Внутреннее пространство в стихах Седаковой Сандлер описывает следующим образом: «Access to interior worlds maps the pathway of many of Sedakova’s poems, but the distances travelled grow vast, allowing the inner spaces of spirituality and subjectivity to mirror the cosmic enormity of a world divinely ordered. These journeys emerge less as dynamic experiences of movement than as stilled concentrations of thought, closer to still life painting, in fact, than to portraiture» ( Sandler S. Mirrors and Metarealists. P. 5). Перевод: «Многие стихотворения Седаковой прокладывают путь во внутренний мир. При этом пройденное расстояние преодолевается быстро, позволяя внутреннему, духовному и субъективному пространству отразить космическую масштабность божественного строя. Эти путешествия отличаются не динамикой движения, а концентрацией мысли, которая свойственна на самом деле скорее натюрморту, нежели портрету».
Седакова О. Похвала поэзии (3: 61).
Седакова О. Путешествие в Брянск. С. 53.
Там же.
Об утрате детского (райского) мироощущения и о потере с возрастом дара понимания «языка природы» говорится в стихотворении «Портрет художника в среднем возрасте» (1: 407). В противоположность деревьям, устремляющимся «о, туда, где мы себя совсем не знаем!», люди оказываются глухонемыми по отношению к истине. Встает риторический вопрос: «Какой известкой, какой глиной / каким смыслом, / выгодой, страхом и успехом / наглухо, намертво они забиты – / смотровые щели, слуховые окна, / бойницы в небеленом камне, / в которые, помнится, гляди не наглядишься?» Осознание «художником в среднем возрасте» потери этой детской восприимчивости принимает форму гротеска: Седакова завершает стихотворение детской песенкой: «Ах, мой милый Августин, / все прошло, дорогой Августин, / все прошло, все кончилось. / Кончилось обыкновенно».
В связи с этим конкретным примером хочется отметить специфику и частоту так называемых «метафор-метаморфоз» в творчестве Седаковой, которые помимо ассоциативной отсылки к фольклору (творительные сравнения, прием параллелизма) олицетворяют новое, особое мироощущение. Принцип «метаморфизации» Эпштейн объявляет «ведущим принципом поэтического мировидения» поэтов 80-х. «Далекое открывается в ближайшем, древнейшее в нынешнем. <���…> Ничто ничему не уподобляется, но одно проступает в другом» ( Эпштейн М. Указ. соч. С. 67). «В отличие от метафоры, которая по природе своей прерывна, точечна, метаморфоза может длиться, поскольку образ явления берется из области его собственных возможностей, тайных недр прошлого и будущего, а не привлекается со стороны, “на миг”, для условного сопоставления» (Там же. С. 70).
Седакова О . Путешествие в Брянск. С. 54.
Наряду с трансформациями реальных пространственных данных в вышеприведенных эпизодах Седакова вводит тему «диалога» с неким голосом.
В компаративной статье «Singing David, Dancing David: Olga Sedakova and Elena Shvarts Rewrite A Psalm» Мария Хотимская подчеркивает связь между мотивом сна / видения и описанием творческого процесса и «духовной автобиографии» в творчестве этих двух поэтов. В рамках этого мотива развертывается и интертекстуальный диалог Седаковой с коллегами по ремеслу. См.: Khotimsky M . Singing David, Dancing David: Olga Sedakova and Elena Shvarts Rewrite A Psalm // Slavic and East European Journal. 2007. Vol. 51. No. 4. P. 739.
Седакова О. Путешествие в Брянск. С. 53–54.
В своей обзорной статье по истории культуры воды Хартмут Бёме неоднократно обращается к вопросу неотличимости божественного начала от элемента воды в библейской космогонии. На примере элемента воды Бёме обсуждает утопичность и абсурдность поворота в мышлении человечества Нового времени, стремящегося к автономии от природы: по отношению к элементу воды человек всегда находится в роли субъекта и объекта одновременно. См.: Böhme H. Umriss einer Kulturgeschichte des Wassers // Kulturgeschichte des Wassers / Hrsg. v. Hartmut Böhme. Frankfurt a. M., 1988. S. 7–42. Здесь цитируются S. 10, 16.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу