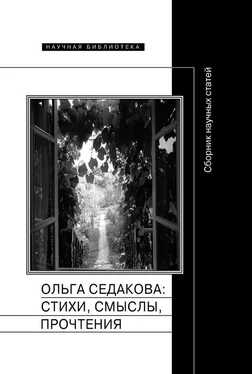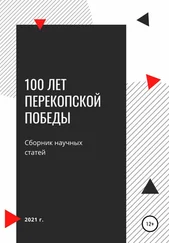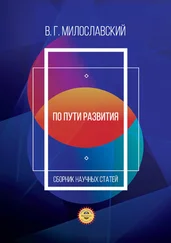В поздних произведениях Седакова отказывается от мотива «зеркал». Вопрос о возможном истолковании этого отказа как знака ухода от авторефлексии (и от себя) в сторону открытости к миру достоин отдельного исследования. (Благодарю Маргариту Криммель за это ценное наблюдение.)
Стефани Сандлер подчеркивает в своей работе аспект авторефлексивности этого образа ни только в отношении пишущего субъекта, но и самого письма, творческого процесса. См.: Sandler S. Op. cit. P. 4.
Один из лейтмотивов потусторонней эстетики Седаковой – это парадоксальное осязание собственной сущности в момент умирания или же во время транзитивных состояний сна, видения, болезни, путешествия. Потеря физической оболочки, изменение физическо-материального строя бытия способствует погружению в сущность вещей и себя сaмого: тем самым по ту сторону бытия сознание воскресает истинной жизнью: «Живое живо в глубочайшем сне, / в забвении, в рассеянье, на дне / какого-то челна <���…>» («Стансы вторые. На смерть котенка», 1: 281), «Что делает он там, где нет его? / Где вечным ливнем льется существо» (Там же, 1: 279), «Я верю, что там, где меня уже нет, / я сам себя встречу, как чудный совет, / который уже не хочу не исполнить» («Болезнь», 1: 108), «Или свиданье стоит, обгоняющий сад, / где ты не видишь меня, но увидишь, как листья глядят, / слезы горят / и само вещество поклянется, / что оно зрением было и в зренье вернется» («Странное путешествие», 1: 76).
И в прозе образ сада наделен особым семантическим ореолом. Описывая Валентиновку – одно из излюбленных мест, дачу времени детства, – Седакова гипертрофирует его в райский сад: «Несколько вишен за домом были огромным садом, райским садом» ( Седакова О . Похвала поэзии, 3: 48). Обратим внимание на то, что, перепробовав разные топонимические термины «пейзаж, ландшафт» для описания места, которое рождало тоску по недостижимому небу, автор остановился на слове «окрестность»: реализованное в этом слове пересечение горизонтальной и вертикальной линий отвечает авторскому восприятию: «Здесь связь с небом значительно облегчена: его было мало, оно было далеко, с него падали шишки, и к нему легко забиралось внимание, которому нечего было делать, как повторять движение стволов» (3: 49).
К вопросу об эстетической системе средневековых монастырских садов см.: Лихачев Д.С. Поэзия садов. К семантике садово-парковых стилей. Л.: Наука, 1982. С. 41.
Лихачев Д.С. Поэзия садов. С. 17.
Эпифаническое и интимное осязание собственного Я во время созерцания сада описывается в стихотворении «Утро в саду» (1: 116). Реальные явления исчезают из восприятия лирического героя, на смену приходит ощущение истинного Я как части мироздания, переживается слияние с божественной материей, со светом: «Никого со мной нет, этот свет… наконец мы одни».
О сходстве садового строя, системы и поэтической системы, о тесном соотношении и взаимодействии поэзии и садоводства, точнее, о влечении поэтов к садоводству, пишет Лихачев, выделяя «поэтов-садоводов» Петрарку, Джозефа Аддисона, Александра Попа, Гете. См.: Лихачев Д.С. Указ. соч. С. 11. «Труд писателя на Западе в Средние века уподоблялся труду садовника, который высаживает цветы» (Там же. С. 41).
Гаспаров указывает на сочетание амфибрахия с балладным жанром. На примере лермонтовских баллад выделяются структуры параллелизма как одна из стилистических примет ( Гаспаров М.Л. Метр и смысл. С. 124).
Айзенштейн раскрывает интертекстуальные аллюзии стихотворения «Сад», в котором хранится «память об ушедших поэтах, заключенная в слове, в диалоге с ними через стихи». На лексическом уровне можно проследить диалог и с Цветаевой («Сад»), и с М. Кузминым («Виночерпий Гюлистана» из «В начале было так – и музыка и слово…» – «и вишни дрожит золотой Гулистан»), и с Мандельштамом («Так птицы на своей латыни / Молились Богу в старину» из «Аббата» – «и тополь стоит, как латыни стакан»), и с Ахматовой с ее тополями из «Сероглазого короля» и «Реквиема». См.: Айзенштейн Е. Указ. соч. С. 180.
Седакова О. Искусство как диалог с дальним (3: 326).
Равази Дж., кардинал . «Каждое художественное выражение…» // Книга поздравительных посланий Ольге Седаковой / Пер. Ольги Седаковой. М.; Азаровка, 2010. С. 8.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу