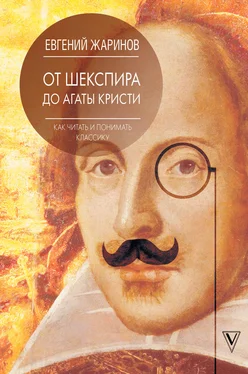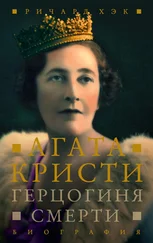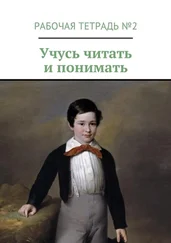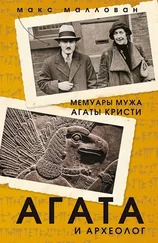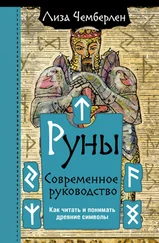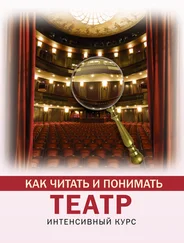Получается так, что своим странным поведением М. Лютер лишь подтвердил мысль о том, что он не смог отказаться до конца от индивидуалистического начала, не смог войти в логику апостольской жизни. Более того, именно это индивидуалистическое начало привело его к тому, что он создал совершенно новый тип религии, в которой немалую роль начал играть рационально-индивидуалистический аспект.
Следует отметить, что в средневековой теологии всегда достигалась спасительная гармония между Разумом и Откровением. И именно этой проблеме были посвящены труды таких богословов, как Аверроэс и Иоанн Жоденский. Историческое значение Св. Фомы Аквинского заключается в том, «что он был первым средневековым мыслителем, который добрался до корней этого затруднения».
Лютер же буквально взорвал подобное равновесие и подчинил Откровение Разуму, тем самым открыв широкую дорогу для всякого рода спекуляций относительно диалектики Добра и Зла.
По А.Л. Чижевскому, неожиданное распространение идеи лютеранства можно отнести к разряду так называемого «эпидемического распространения». Сюда относятся многие научные, литературно-художественные, бытовые представления, религиозные, политические учения и т. д., которые неожиданно вызывают повальные умственные движения и «могут быть причислены к собственно психическим эпидемиям».
Для того чтобы идея получила широкую огласку, необходимы определенные условия как объективные, так и субъективные, составляющие «сложную совокупность». Эти условия должны быть включены в структуру самого общества, и случайность здесь играет большую роль.
О лютеранстве написано немало книг, пытающихся проанализировать закономерность появления этого религиозного учения в Германии в начале XVI века. Но при всем богатстве источников до сих пор остается неясной скрытая закономерность широкого распространения протестантизма в Западной и Восточной Европе. По мнению Ги Бедуелля, знаменитые 95 тезисов, вывешенные 31 октября 1517 года накануне праздника Всех святых на воротах монастыря в Виттенберге, до недавнего времени имели основополагающее значение во всей истории протестантизма.
Сейчас же среди историков религиозных учений существует несколько иное мнение. «Несмотря на всю их резкость и содержащиеся выпады, – пишет Бедуелл, – эти тезисы были, по всей видимости, всего лишь приглашением к богословскому диспуту, к disputatio средневекового типа, который имел полное право затеять любой университетский профессор, переполненный идеями».
«Революционный» запал самого Лютера не нарушал существующей логики средневековой богословской жизни. Тот же Бедуелл больше обращает внимание на другой эпизод, имевший место в 1519 году в Лейпциге, когда противник Лютера Иоганн Экк из Ингольдштадта обвинил его в отрицании непогрешимости Соборов, то есть в полном разрыве с Преданием, которое Лютер считал не более, чем человеческими словами, а также с Церковью, поскольку он полагал, что она может заблуждаться даже в вопросах веры.
В работе 1520 года и сформировалась концепция интуитивного прозрения, интуитивного прочтения Святого писания. До этого канонический текст предполагалось изучать лишь в соответствии со строжайшими правилами и по всем законам схоластики, требующей огромной и, прежде всего, рациональной, высокоинтеллектуальной подготовки. Стихия интуиции, подкрепленная общей одержимостью автора, призвана была разрушить стройный схоластический мир средневекового богословия.
Но при ближайшем рассмотрении выясняется, что и здесь Лютер был далеко не оригинален. Еще во время Столетней войны во Франции наблюдалось серьезное разделение западноевропейского богословия на схоластическое и интуитивное. Это интуитивное начало брало свои корни из учения Франциска Ассизского.
Во Франции XV века таким антипапистом интуитивного толка был Жерсон д'Апльи, поддерживавший Яна Гуса и Джона Уиклифа. Так, Жерсон утверждал, что природные силы не страшны единству Вселенской Церкви, – они страшны только такому единству, которое основано на «наслоении абстракций».
Но почему же тогда именно Лютеру, а не его предшественникам суждено было стать во главе Реформации? Почему его идеи получили столь широкую поддержку и оказали такое влияние на всю последующую духовную историю человечества?
На этот вопрос трудно дать исчерпывающий ответ. Однако по странному стечению обстоятельств как раз идее М. Лютера и была суждена подобная судьба: она стала, в отличие от взглядов его предшественников, достоянием масс, возник прецедент для появления идеологии всевозможного индивидуализма вплоть до романтического.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу