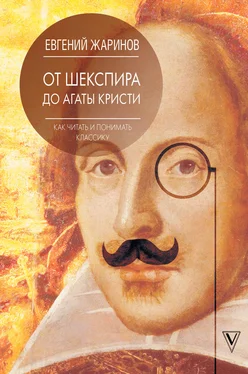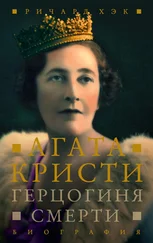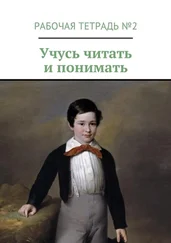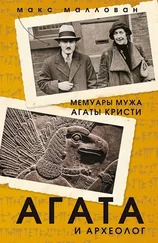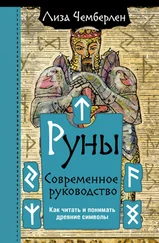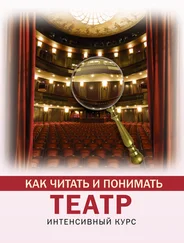Под влиянием подобной доктрины Лютер решительно отказывается от всех таинств церкви. Эта идея нашла свое воплощение в знаменитом трактате «Вавилонское пленение Церкви», в котором реформатор собирался из всех таинств сохранить лишь два: крещение и евхаристию. Не признавал Лютер и распространенного у католиков представления о чистилище, так как идея предопределенности уже при жизни раз и навсегда поделила людей на тех, кто спасется, и тех, кто погибнет, несмотря ни на что.
В воззвании «К христианскому дворянству немецкой нации», для достижения большего эффекта написанном на немецком языке, Лютер предпринимает попытку снести три стены темницы, возведенной, по его мнению, Римом для христианства. В частности, он пишет:»…Каждый крестившийся может провозглашать себя рукоположенным во священники, епископы и папы. Хотя не каждому из них подобает исполнять такие обязанности. И хотя все мы в равной степени священники, никто не должен ловчить и выдвигаться по своей воле без нашего согласия и избрания, то есть делать то, на что мы имеем равные права». В этом же воззвании М. Лютер пишет и об избранности:
«…Вполне может быть, что папа и его приближенные, являясь злыми и неистинными христианами, хотя и наученные Богом, не обладают истинным разумением, и, наоборот, простой человек имеет правильное разумение. Почему же нельзя ему следовать?».
Как пишет Ги Бедуелл: «Суть брошенного Лютером вызова не в его утверждениях, а в пронизывающем эти утверждения отрицании: вера без дел; благодать без свободы воли; Писание без Предания. Этот момент – принципиальный, ибо Лютер призывает не только опираться на Scriptura sola (только писание), но и судить всю традицию в свете его собственной интерпретации библейского Откровения». И далее: «Лютер предложил принципиально новое прочтение Евангелия», суть этого прочтения заключалась «в блистательной интуиции, на которой отныне строится новое богословие». По мнению французского исследователя, именно эта ориентация на интуицию и привела Лютера к диалектическому подходу к вопросам теологии. Но опора на творческую интуицию личности и диалектический подход к проблемам Добра и Зла и являются двумя отправными точками для эстетики предромантизма, а затем и романтизма. В Германии именно в философии И. Канта мы должны искать истоки романтической философии, но даже при беглом анализе учения Лютера сразу же бросается в глаза его схожесть с этическими представлениями И. Канта, в частности с его представлениями о легальности и моральности. Эти представления у немецкого философа вытекали из его концепции автономии морали. Согласно И. Канту, действие морально лишь в том случае, если при его совершении воля руководится только нравственным законом – категорическим императивом, т. е. если действие совершается исключительно ради него. Если же действие соответствует нравственному закону, но мотивом его совершения выступает не он сам, а какая-либо чувственная склонность, то действие не морально, а только легально.
О близости Лютера и Канта писал в свое время А.Ф. Лосев. Известно также, что через Фихте Кант оказал непосредственное влияние на философию немецкого романтизма и в частности на таких представителей Йенской школы, как Шеллинг, Новалис и Тик.
Так, по мнению В. Жирмунского, «романтизм перестает быть только литературным фактом. Он становится прежде всего новой формой чувствования, новым способом переживания жизни». Появляется «человек, для которого весь мир божественен, для которого божественное является вместе с тем высшей целью».
Но каким образом лютеранство могло быть воспринято самой эстетикой романтизма? Скорее всего, это влияние стало возможным только благодаря такому течению, как пиетизм. Пиетизм – это направление протестантизма конца XVII–XVIII вв. «Вторая половина XVIII века была для Германии, – пишет В. Жирмунский, – временем широкого распространения пиетизма – веры в возможность для чувствительного сердца непосредственного общения с Богом.
Религиозная концепция немецкого романтизма наиболее полно и подробно была разработана Фридрихом Шлейермахером. «Заслугой Шлейермахера, – пишет Н. Берковский, – является введение в теоретическую философию вполне осознанного и продуманного понятия мистического и религиозного восприятия… Шлейермахер философски исследовал то, что было особенностью романтической поэзии; в его религиозной философии нашли себе место все романтические мечты и переживания».
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу