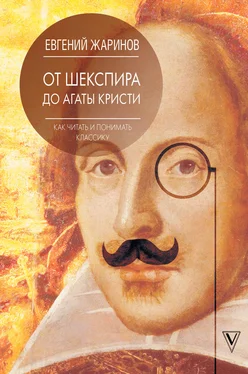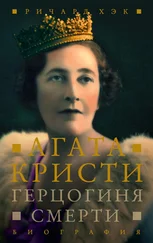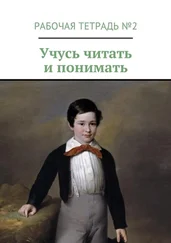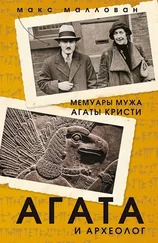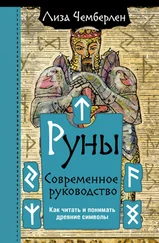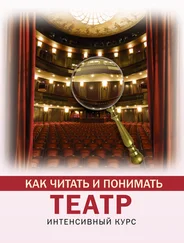Теперь, если пристальнее вглядеться в такие жанры современной англо-американской массовой беллетристики, как «фэнтези» и роман ужасов, то мы без труда обнаружим, что вышеупомянутые жанры корнями своими уходят в такое иррациональное явление мировой литературы, как романтизм. Следует отметить, что романтизм, несмотря на всю свою элитарность и аристократическое презрение к обывательской массе, сумел-таки по-своему отреагировать на глобальный процесс массовизации искусства. Проявилось это, прежде всего, в том, что именно немецкие романтики (йенская школа: Шеллинг, Новалис, Тик) начали процесс «ремифологизации» литературы, столь характерный для всего XX века, о чем уже говорилось выше.
Получается следующая картина: если реалисты сделали первые шаги по пути создания простых рассказов о жизни «Хуана и Марии», которые в дальнейшем на западной почве свелись к узкому позитивистскому натурализму, то романтики, разработав мифологическую тему, словно пророчески устремились в будущее, когда всеобщая массовизация общества достигла своего апогея и сама масса начала диктовать уже не рациональную, а иррациональную, космическую и мифологическую концепции мира. Здесь проявляется определенная ирония времени: вспомним, именно космическая научная фантастика на многие десятилетия стала своеобразным символом ширпотреба и низкопробной массовой культуры. Но и научная фантастика, кстати сказать, также берет свои корни из романтизма («Необыкновенное приключение некоего Ганса Пфааля» Э.А. По).
Правда, этот вопрос требует дополнительных пояснений. По мнению Вл. Гакова, научная фантастика – результат развития чуть ли не всей интеллектуальной истории человечества, начиная с Коперника. Элементы научной фантастики мы находим и у Дж. Свифта. Но лишь в творчестве Э. По поиски предшественников получают принципиально новое осмысление. По замыслу автора, следует объединить искусство и науку, рациональное и иррациональное начала. С возникновения этой творческой рефлексии по поводу нового жанрового образования и можно начинать отсчет истории научной фантастики.
Пожалуй, наиболее романтическим жанром массовой беллетристики является детектив. Относительно его происхождения существует немало версий. Правда, считается, будто «Опера нищего» Дж. Гея является прообразом упомянутого жанра. Однако основные устоявшиеся законы детектива, скорее всего, сложились в творчестве того же Э. По. В апреле 1841 года в журнале «Грехем Мегезин» был опубликован рассказ «Убийства на улице Морг», в котором впервые появился образ Огюста Дюпона. Английский критик Джулиан Саймонс считает, что классический детектив по сути своей является романтическим повествованием, похожим на сказку. Так, по мнению У. Китреджа и С. Краузера, главный герой классического детектива словно специально вырван из реальных обстоятельств в прямом соответствии с принципами романтической типизации. Этого героя интересует не столько конкретное преступление, сколько сам процесс разгадывания. Игра выдающегося ума прежде всего и увлекает читателя. Скорее всего, именно здесь и проявляется принцип романтического двоемирия, так как сыщики классического детектива (Дюпон, Холмс, Пуаре и др.) с презрением относятся ко всякого рода полицейской посредственности (Лестрейд, например), не способной проникнуть в тайные помыслы преступного антипода главного героя, этакого варианта романтического злодея, гения Зла, профессора Мориарти, например.
Близка к сюжету готического романа почти любая событийная канва классического детектива и об этом также упоминают американские критики. В основе этой сюжетной канвы лежит рассказ о спасении невинной беззащитной жертвы, чаще всего девушки. И это можно назвать отголоском такого романтического архетипа, как любовь-страсть, являющегося единственным звеном, связующим исключительного героя с обыденным миром. Следует также отметить, что и сам образ сыщика по законам все той же романтической эстетики воплощает в себе некую благородную червоточину как черту декаданса. Этот образ всегда будет окутан таинственностью. Дюпон, по мнению Китреджа и Краузера, скорее всего, напоминает опасного лунатика, а не нормального человека. Он живет со своим безымянным помощником, будущим прообразом доктора Ватсона, в заброшенном доме, не нуждается ни в чем, кроме книг, ведет затворнический образ жизни, а прошлое его романтически туманно и покрыто зловещим и таинственным мраком. Конан Дойл еще сильнее оттенил эту черту и сделал своего Холмса морфинистом, подвластным всякого рода мрачным настроениям. Здесь дает знать о себе общая романтическая ориентация на так называемую «диалектику Добра и Зла». Еще в конце XVIII столетия Эд. Берк в своем трактате «О Возвышенном и Прекрасном» обосновал в противовес просветительской эстетике новое толкование категории Возвышенного и Прекрасного, отделив эти категории от этических (таких, как Добро). Именно Эд. Берк установил приоритет эмоциональной реакции на действительность, позволяющей, как известно, эстетизировать любое Зло. Таким образом, предромантики, а затем и романтики поставили под сомнение основные закономерности Теологии, а именно, Теодицеи, которая берет свое начало из книги Иова. Теодицея в переводе означает «говорит Бог». Считается, что впервые в истории человечества Бог заговорил со своими созданиями, когда непомерные страдания человека заставили его возроптать против непостижимой высшей воли. Известно, что книга Иова создавалась в тот исторический период, когда у древних иудеев еще не сложилось ясного представления о загробном мире.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу