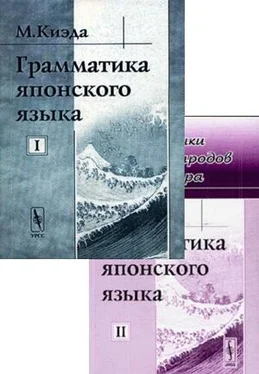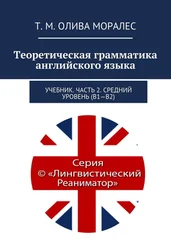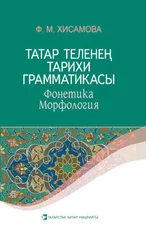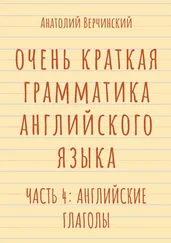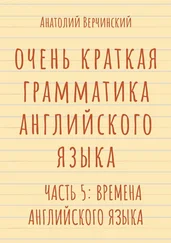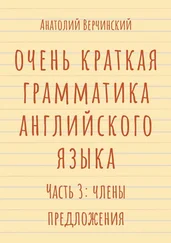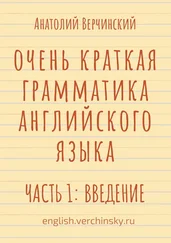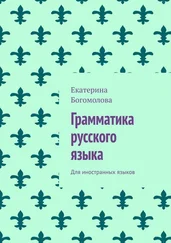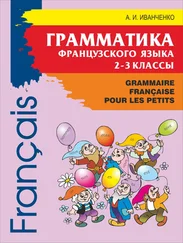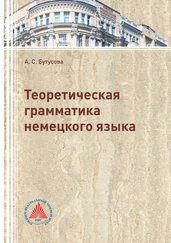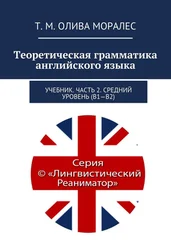Однако при переводе терминологии, как и при всяком переводе в целом, имеется и обратная опасность - буквализм. Буквализмом в атом случае можно назвать передачу внутренней формы в тех случаях, когда первоначальное этимологическое значение термина утрачено. Общеизвестно, что основные термины западноевропейской и русской грамматики являются переводными кальками с древнегреческого и латинского. Однако в результате калькирования первоначальное этимологическое значение в них утратило связь с реальным терминологическим. Но иначе обстоит дело с большинством терминов нового времени. Поэтому, если смешно было бы переводить на какой-либо язык русский термин "падеж", исходя из значения глагола "падать", то сам термин "внутренняя форма" или термин "категория состояния" требуют буквального перевода, который в этом случае и будет переводом точным. А современная японская грамматика как раз богата терминами такого рода. В том случае, когда подобный термин обозначал понятие, чуждое нашей грамматике, ему давался буквальный перевод в той мере, в какой это позволял русский язык. К сожалению, и в этом отношении возможности оказались ограниченными. Поэтому нередко приходилось подбирать эквивалент, исходя из анализа отчасти содержания, которое вкладывается в термин, отчасти явления, к которому он прилагается: таков, например, перевод термина kaku - "синтаксическая позиция". Наконец, существовала еще опасность подменить перевод термина пересказом; к нему можно приравнять объяснение, раскрытие значения термина вместо его перевода, например передачу термина kango так: "японское слово из корней (корня) китайского происхождения". Очевидно, что оперировать подобным объяснением с такой же свободой, как термином, трудно. Только два японских термина - taigen и yōgen - введены и русский текст.
Текст книги переведен полностью, но известному сокращению подверглись примеры, особенно взятые из древней литературы: перевод всех примеров и необходимое для последних комментирование непомерно увеличили бы объем книги. Пришлось отказаться и от двоякой передачи примеров - в национальной графике и в русской транскрипции - и ограничиться одной последней. Без русской транскрипции примеры были бы недоступными для тех, кто не знает японского языка. Отказаться же от японской графики можно было без ущерба для читателей, тем более что для примеров из памятников древней литературы (" Man'yoshū ", " Genji monogatari " и т.п.) современное японское письмо тоже является транскрипцией (современное японское письмо основано на комбинированном использовании иероглифов и каны. В древней литературе применились другие системы письма (см., например, о man'yogana ).
Примеры из древнего языка даются в современном произношении. Так их читают всегда и в Японии, за исключением тех случаев, когда они приводятся в специальных работах по исторической фонетике.
Разделение на слова, без которого русская транскрипция невозможна, проведено по правилам, принятым и советском японоведении (см. Л.Л.Немзер и Н.А.Сыромятников, Японско-русский словарь, под ред. Н.И.Фельдман, М., 1951), с одним отступлением: выделительная частица wa в отличие от падежных суффиксов пишется не через дефис, а раздельно. Надо учитывать, что в разделении на слова отражены наши грамматические представления о японском языке, поэтому проявление в транскрипции известных расхождений с авторской интерпретацией некоторых явлений оказалось неизбежным.
С целью сделать японский текст примеров возможно более ясным и для тех читателей, которые не знают японского языка, мы стремились к максимальной дословности, сознательно отказываясь от литературно полноценного перевода. В особенности это относится к переводу многочисленных стихотворений из древних антологий " Man'yoshū " и " Kokinshū ". Их перевод представляет собой грамматический подстрочник, кроме того, он лишен необходимого поэтического и реального комментария и, значит, неспособен дать представление о художественных достоинствах древней японской поэзия; да это последнее и не составляло в данном случае задачи перевода. Однако желаемый дословный перевод часто оказывался невозможным в силу глубоких различий в грамматическом строе обоих языков, в их семантических системах и в их фразеологии. Этим объясняется введение в перевод дополнительных, необходимых для смысла слов (знаменательные слова, не имеющие прямого соответствия в оригинале, даются в квадратных скобках всегда, служебные же - только в тех случаях, когда объясняется сама японская структура, где им нет прямого соответствия), а также то, что в единичных случаях пример был заменен аналогичным другим.
Читать дальше