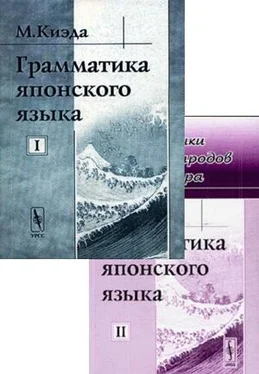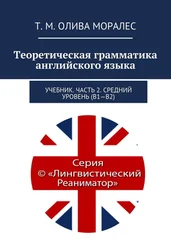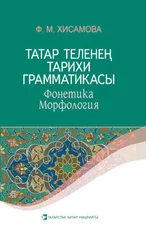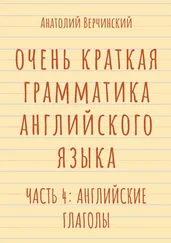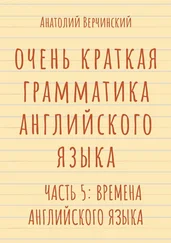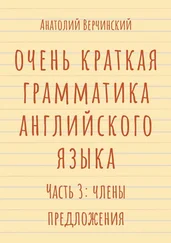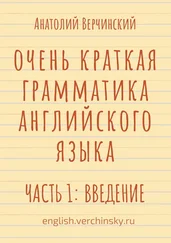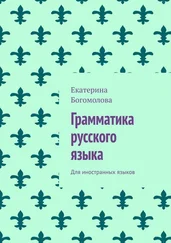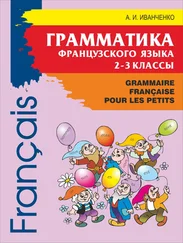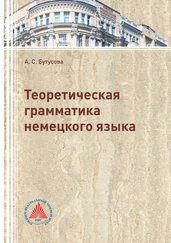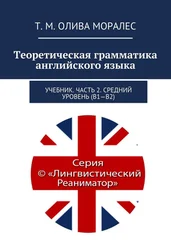Но есть ли оснований для такой трактовки? Что касается таге называемых служебных глаголов ( jodōshi ), то еще Yamada показал, что они представляют собой глагольные окончания (он назвал их "сложными окончаниями"), а не отдельные слова. Никто из японских грамматистов не отрицает теснейшей связи этих элементов с глаголом, связи даже более тесной, чем связь суффикса с основой, о чем говорит и автор этой книги. Для обозначения этой связи обычно применяется не только глагол renzoku suru , букв. "продолжать", но и tsukeru , букв. "прилагать". Однако обычно в японской грамматике отрицается грамматическая суффиксация как таковая. Это удивляет особенно потому, что в плане общего языкознания японские лингвисты, восприняв западноевропейскую типологическую классификацию языков, характеризуют японский язык как агглютинативный. Это общепризнанно и никем не оспаривается. А для агглютинативных суффиксов как раз и характерна та универсальность присоединения ко всем словам определенной категории, которая свойственна японским глагольным суффиксам, именуемым jodōshi , и такой категории служебных слов, как падежные показатели - kakujoshi . Между тем именно на основании этой универсальности японские грамматисты отрицают суффиксальный характер указанных элементов!.
Но если принимать все служебные элементы японского языка за отдельные слова, создается неправильное представление о его строе как строе полностью аналитическом. Если же рассматривать эти элементы как агглютинативные суффиксы, чем они и являются, то есть иметь право говорить о формообразовании, создается возможность формулировать те характерные черты строя японского языка, в которых он обнаруживает поразительное сходство со строем других агглютинативных языков (с которыми он не имеет никакой корневой общности) - о корейским языком, языками тунгусо-маньчжурскими, монгольскими и отчасти тюркскими. (Здесь данная тема может быть затронута только в самом сжатом виде.) Разумеется, при этом сходстве каждый язык и каждая группа сохраняют свою специфику. Но если трактовать все служебные элементы японского языка как отдельные слова, основа для параллелей отпадает. Поясним это примером: близость значений и функций английского предлога of в сочетании с существительным и русского родительного падежа только подчеркивает разнородность явлений, характерных для флективного строя русского языка и аналитического - английского; так и аналогия между японским kara , если считать его отдельным служебным словом, а не агглютинативным падежным суффиксом, и формой исходного падежа в корейском и монгольском языках подчеркивала бы агглютинативный характер последних и аналитический - первого. Но это и значило бы создавать неправильное представление о строе японского языка. При такой трактовке, разумеется, отпадает возможность отличить подлинно аналитические формы от агглютинативно образованных синтетических, оценивать соотношение элементов анализа и синтеза на разных этапах развития языка. Поэтому японские грамматисты проходят мимо такого явления, как, например, частичное замещение синтетических, агглютинативных форм глагола, типичных для старого, письменно-литературного языка, формами аналитическими, утвердившимися в современном языке. Например, вместо torubeshi - toru de arō в значении "вероятно, возьмет" и toranakereba naranai - в значении "нужно взять"; вместо toraru наряду с torareru имеются аналитические формы totte morau в значении "взято для кого-либо" и totte aru в значения "взято" (о чем-либо; последнего употребления toraru в старом языке не имел). Они не дают должной оценки образованию из аналитически! форм современного языка новых синтетических форм, правда, еще не признанных как литературная форма, но широко внедрявшихся в устную речь, например: totte iru -> totteru, totte oku -> tottoku . Японские грамматисты не отмечают и значения того, что в современном языке некоторые агглютинативные глагольные суффиксы подвергаются фузии с основой, что превращает их в окончания; таковы окончание будущего временя u ( torau -> torō ), окончание прошедшего времени ta ( torita -> totta, yomita -> yonda ), окончание деепричастия совершенного вида te ( torite -> totte, yomite -> yonde ). Все эти явления остаются неоцененными в своем грамматическом качестве, поскольку beshi, ru в старом языке, reru, u, ta, te в современном языке считаются отдельными словами; поэтому, например, totte рассматривается не как деепричастие, не как одно, а как два слова. При такой трактовке японские грамматисты не уделяют никакого внимании вопросу о природе каждого из этих элементов в отдельности: они, например, не проводят разницы между глагольными суффиксами времени, наклонения, залога и вида, с одной стороны, и глаголами-связками и так называемыми служебными глаголами сравнения, например gotoshi - с другой, или между падежными суффиксами ( kakujoshi ) и другими так называемыми служебными словами, иначе говоря, частицами, - подчеркивающими, ограничительными и т.п. Все конкретные следствия такой концепции перечислить здесь, конечно, невозможно.
Читать дальше