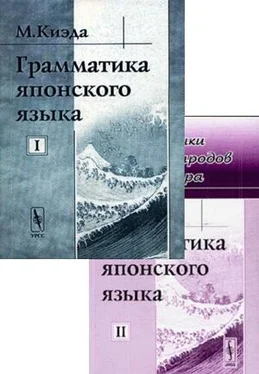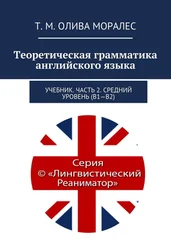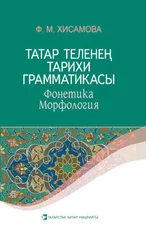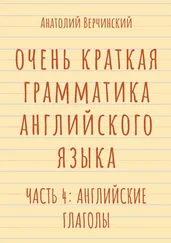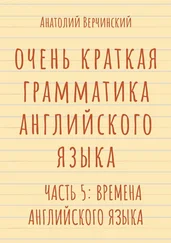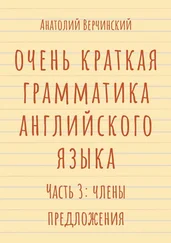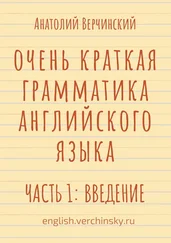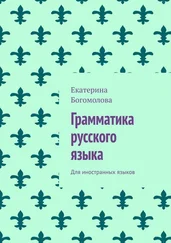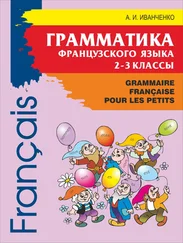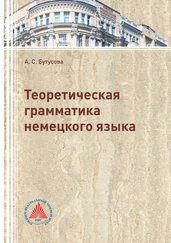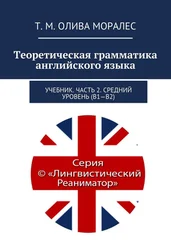Японские филологи этого периода (е середины XVIII до середины XIX в.) в области грамматики занимались в основном тремя проблемами; классификацией слов по лексико-грамматическим категориям, описанием системы изменений тех разрядов слов, которые были признаны изменяемыми, и определением функций тех элементов родного языка, которые еще ранее были наименованы tenioha . Достаточно напомнить, что в Китае проблема частей речи китайского языка впервые привлекла к себе внимание только в наши дни, а наличие элементов спряжения у глагола еще подлежит доказательству, чтобы стало ясно, насколько самостоятельно по отношению к китайскому языкознанию развивалась японская грамматическая наука. В момент своего становления она не заимствовала ни готовых грамматических концепций, ни специальной терминологии. Этим объясняются такие "кустарные" наименования, как "головные шпильки" ( kazashi ) и "обмотки" ( ayui ) в первой классификации частей речи у Fujitani Nariakira . Некоторую помощь в этом направлении, оказала только теория стихосложения - область, весьма развитая у японских средневековых филологов. Даже tenioha впервые явились предметом рассмотрения в небольшом трактате по стихосложению конца XV в. " Teniha taigaisho ". Были заимствованы и термины поэтики, такие, как na, kotoba, tai, yo и некоторые другие, разумеется, переосмысленные в грамматическом плане.
Развиваясь в общем потоке филологии того времени ( kokugaku ), имевшей дело с древней японской литературой, японская грамматическая наука, естественно, избрала объектом изучения язык этой литературы. Однако особенность истории японского языка, как и некоторых других языков Востока, состоит в том, что грамматические нормы старого языка оказались законсервированными в литературном употреблении на многие вока. Вплоть до конца XIX в. этот письменный язык, претерпев лишь весьма незначительные, поверхностные изменения, господствовал в художественной, общественно-политической и научной литературе и в официальной документации (а также в официальном устном общении - официальных речах, торжественных выступлениях и т.п.), играл роль письменно-литературной нормы. Таким образом, грамматисты этого периода, изучая язык древней литературы, вместе с тем изучали современный им письменно-литературный язык, язык своего культурного обихода. У них не было исторической перспективы и живого ощущения изменчивости языковых форм.
А между тем рядом существовал живой язык, язык повседневного обихода и некоторых народных драматических и даже повествовательных жанров. И этот язык к началу XX в., после победы так называемого "движения за единство речи и письма", приобрел права национальной языковой нормы. Правда, письменный язык еще сохранился в одной узкой области - в официальной документации, но и оттуда он был изгнан в связи с некоторыми демократическими реформами после поражения Японии в 1945 г. Однако, когда японская грамматическая наука в начале XX в. обратилась к изучению современного языка, она сочла его только стилистически отличным от того языка, которым она занималась ранее; первая грамматика современного языка, принадлежащая Matsushita Daizaburo , поэтому и именовалась "Грамматика японского просторечия" (" Nihon zokugo bunten ").
Она вышла в 1901 г., а еще в 1887 г. появился роман "Плывущее облако" Futabaten Shimei , в котором современный язык уже вступал в литературу, а в 1905 г. крупнейшей японский писатель Shimazaki Toson в романе "Нарушенный завет", представляющем собой одно из лучших произведений новой японской реалистической литературы, окончательно закрепил победу современного языка как полноценного средства художественного выражения. К концу первого десятилетня нашего века на этот язык перешла вся новая художественная литература, им пользуется пресса, на нем пишутся научные труды, в том числе и грамматики японского языка. Но японская грамматическая наука по-прежнему противопоставляет старому языку вместо современного языка "устный язык" - kōgo ( kōgo - традиционно, но не точно, переводится "разговорный язык"; это наименование быстро вытеснило в применении к современному языку термин zokugo , который употребляется теперь только в своем прямом значения "просторечие") объединяя все остальное - от языка VI в., до письменно-литературного языка последних десятилетий - под названием "письменный язык" - bungo .
Это не значит, что современные японские лингвисты не питают интереса к процессу исторического развития своего языка; наоборот, существует ряд ценных работ по грамматике отдельных древних и средневековых периодов, а также по общей истории японского языка. (Мы не называем их, так как основные из них упоминает автор данной книги). И неправильным было бы утверждение, будто в японской лингвистике отсутствует понимание такого явления, как современный японский язык; напротив, существуют специальные работы, в которых сделан ряд тонких наблюдений над отдельными грамматическими особенностями языка последней четверти века (назовем для примера "Грамматику современного японского языка" ( Gendai kokugohō ) Imaizumi Tadayoshi и сборник статей "Изучение грамматики современного японского языка" ( Gendai nippongohō no kenkyū ) Sakuma Kanae ). Но почему-то все это не отражается на грамматике японского языка как таковой; до сегодняшнего дня она оперирует только "письменным языком" и "устным языком", bungo и kōgo . Так, например, в текущем десятилетии один из ведущих современных лингвистов проф. Tokieda Motoki издает "Грамматику японского языка" ( Nippon bunpō ) с традиционным разделением на две части: " Bungohen " (1950 г.), " Kōgohen " (1954 г.) (в данной грамматике аналогичное деление проведено по главам).
Читать дальше