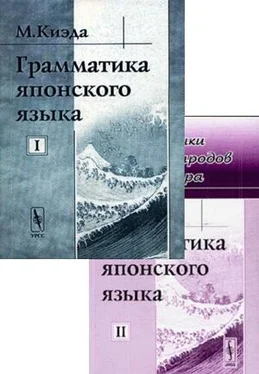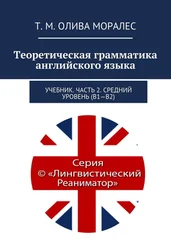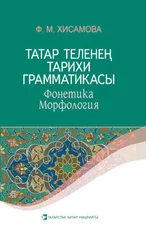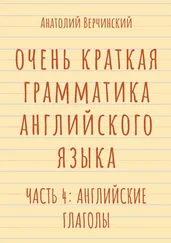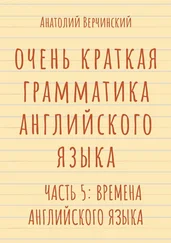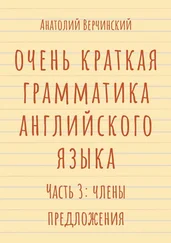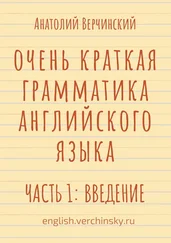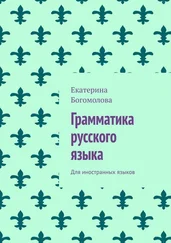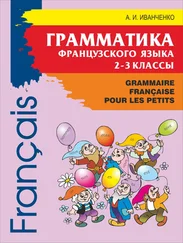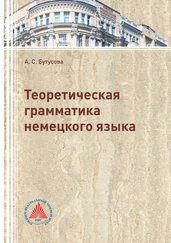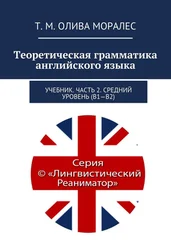Эти примеры далеко не единичны, но здесь мы лишены возможности их умножить. Полагаем, что и они наглядно показывают, что при концепции параллелизма двух замкнутых систем bungo и kōgo тенденция развития языка и выявившиеся в современном языке качественные изменения не могут быть вскрыты.
Наконец надо поставить принципиальный вопрос о материале, на котором строится грамматика так называемого "устного языка". К сожалению, за незначительными исключениями она прибегает к искусственным примерам, вдобавок используемым многими авторами. Правда, случается это и в грамматиках письменного языка, в них мы находим: hana saku "цветы цветут", hana sakazu "цветы не цветут", hana sakaba "если цветы зацветут" и т.д. Однако грамматика bungo наряду с этим располагает и богатейшим материалом из памятников древней и средневековой литературы, тогда как в грамматиках kōgo язык литературы нашего времени представлен далеко не достаточно ярко. Тогда как антология VIII в. " Man'yoshū " изучена грамматически вдоль и поперек, нет ни одной лингвистической: работы, посвященной языку Shimazaki Toson, Natsume Soseki или Akutagawa , этих классиков новой японской литературы. А без изучений реального современного языка некоторые примеры, приведенные нами выше, могут вызвать возражения. Однако современная языковая практика свидетельствует, что присоединение ga, no, ni, o непосредственно к глаголу в третьей форме спряжения даже в значении инфинитива реально вряд ли возможно. А что касается предикативности формы с окончанием na , возможной только в одной особой позиции - этой контаминации функции, существовавшей в старом языке, с формой, возникшей в современном языке (опять взаимопроникновение bungo и kōgo ), - то это явление пережиточное. Такие явления необходимо и регистрировать, и должным образом оценивать. Но с другой стороны, наряду с ними нужно отмечать и то новое, что реально утвердилось в современном языке, как, например, префиксальное употребление суффикса сравнительного падежа yori для образования синтетической формы сравнительной степени прилагательного типа yoriyoi "более хороший", yorijūyōna "более важный" и даже yorihattenshita "более развитый". Такие явления бросают обратный свет на то, что им предшествует, например в данном случае подкрепляют определение слов типа jūyō как особой категории прилагательных, подчеркивают адъективизацию глагольной формы hatten shita . Когда грамматика строится на искусственном материале, все эти явления остаются вне поля зрения.
Оперирование одним и тем же стандартным примером приводит к неправильным представлениям и в другом отношении. Например, многие авторы разбирали стандартное выражение kippu no kiranai kata ; однако надо перелистать многие сотни страниц литературы нового времени, чтобы найти другой аналогичный пример. С другой стороны, сообщение, что "у слона длинный хобот" ( zō wa hana ga nagai ), у ряда авторов служит чуть ли не единственной иллюстрацией одной из продуктивнейших синтаксических структур (см. т.II, гл.30, §2). Десяток предложений из реальных текстов показал бы, что соотношение компонентов в ней далеко не столь единообразно, как представляется по этой схеме.
По указанным причинам нам хотелось бы вместо одноплановой "грамматики устного языка"- kōgohō - видеть грамматику современного языка, излагающую целостную систему, рельефно рисующую богатство живых форм в их реальных связях и имеющую историческую глубину и перспективу.
Касаясь существенных черт японской грамматики, которые определились давно и сохранились доныне, следует иметь в виду трактовку всех служебных элементов языка как отдельных слов.
Распространено представление, что с момента появления "Пространной: грамматики" Ōtsuki Fumihiko (1891 г.) японская грамматическая наука вступила на путь европеизации. Действительно, начиная с этого времени японские лингвисты внимательно следят за развитием европейской лингвистической мысли, и многие работы обнаруживают знакомство их авторов с новейшими западноевропейскими и американскими теориями и общеязыковедческого, и грамматического характера. Однако, если обратиться непосредственно к области грамматики, то надо констатировать, что, хотя влияние европейских грамматических концепций и сыграло известную роль в ее развитии в новое время, все же это влияние оказалось не очень глубоким. Так, по образцу частей речи в западноевропейских языках, и в японском языке были выделены существительное, числительное и местоимение, глагол и наречие. Однако вместе с тем японская грамматическая наука не отказалась от своих исконных обобщающих лексико-грамматических категорий - taigen и yōgen , Наличие категорий keiyōshi - предикативного прилагательного, keiyōdōshi - адвективного глагола и rentaishi (или fukutaishi ) - приименных слов - свидетельствует о самостоятельности японской грамматической мысли в трактовке прилагательных. Как перевод английского термина auxiliary verb был создан термин jodōshi . Однако именно в выделении этой категории при всей видимости "европеизации" наиболее наглядно сказалось сохранение традиционных грамматических представлений: то, что объединено под этим наименованием, отнюдь не соответствует вспомогательным глаголам английского языка (почему мы и не переводим jodōshi этим термином). Jodōshi ("служебные глаголы") и joshi ("служебные слова") - это сохраненная под новым названием старая категория tenioha , т.е. служебные элементы языка, трактуемые как отдельные слова.
Читать дальше