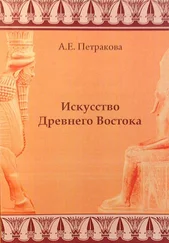«Глубинная» — кельтская и германская — мифология и европейская средневековая антропонимия в русском нейминге пока используются очень скромно. Возможно, всплеск интереса к кельтско-германской демонологии, начавшегося с Толкиена, и массовое продуцирование новых виртуальных нейминг-«мифов» в ближайшем будущем населят нашу нейминг-среду всевозможными эльфами и орками.
Удивительно, но и русская классика представлена в нейминге очень фрагментарно. Зато если уж появляется мода на какого-либо писателя, то начинается целый шквал именования. Так, к примеру, случилось с булгаковскими «Мастером и Маргаритой».
4.5. Историко-культурные антропонимы
В этой области, очень типологически близкой к освещенной в предыдущем разделе, тенденции те же. Есть узкий круг исторических лиц, которые бесконечно неймизируются: Бонапарт, Петр I, Пушкин, Распутин, Степан Разин, Чайковский, Тамерлан, Моцарт, Ермак. Наверное, ощущение дефицита новых идей бренд-неймов витает в воздухе, как говорил Ф. М. Достоевский. Очень характерна, например, складывающаяся в последние два-три года традиция давать имена известных деятелей отечественной культуры пассажирским самолетам. Такие тенденции весьма симптоматичны и в известной мере говорят о «выздоровлении» нейминга.
Особо хочется отметить гигантский нейминг-потенциал русской литературной классики. Здесь речь идет и об именах писателей, и об именах персонажей, и о названиях произведений. Потенциал этот важен и для внутреннего нейминга, и особенно для внешнего. Русская классика до сих пор (без всякого преувеличения) оказывает магическое (и в прямом, научном, и в переносном смысле этого слова) воздействие на образованных людей Востока и Запада. Воздействие это настолько сильно, что в истории России даже сыграло отчасти роковую роль.
Хорошо известно, что немцы перед Второй мировой войной изучали русский национальный характер (т. е. реальную психологию потенциального противника) по русской классической литературе, т. е. они поверили, что русские — это пушкинские Онегины, гончаровские обломовы, гоголевские башмачкины, чеховские червяковы и т. д. Художественную реальность они с немецким педантизмом приняли за «реальную» реальность. А потом немецкие солдаты очень удивлялись, что русские обломовы ожесточенно сопротивляются.
Но это отрицательный пример «магизма» русской литературы. Положительных примеров куда больше. По нашим опросам, почти 40 % иностранных студентов (опросы проводились в МГУ) учат русский язык не по каким-то там прагматическим соображениям, а из чистой любви к русской классике. И грех не использовать такое положение вещей.
Помимо общенациональных историко-культурных антропонимов важно максимально полно и широко использовать региональные бренд-неймы. Страна у нас огромная, разнообразная, и каждому региону есть чем гордиться в культурном отношении. Региональный нейминг по большей части пока центроориентирован. Местные музеи героически сохраняются и развиваются, часто на чистом энтузиазме хороших людей. Но краеведение еще только начинает осмысливать себя как привлекательный коммерческий нейминг, способствующий, в частности, развитию туризма.
Постепенно, но региональный нейминг все же набирает силу. Еще полтора десятка лет назад провинциальный нейминг был почти совершенно безлик: там доминировали онимы еще советских времен. Или же они представляли собой стандартные экзотизмы 90-х гг., подчас до смешного не сочетающиеся с логикой. Почему, например, единственный ресторан в городе Бузулуке должен называться лаунжбаром «Ангола»? Какая связь между Анголой и Бузулуком? Неужели с Бузулуком не связан ни один исторический деятель? Неужели в Бузулуке никогда не родились или не жили интересные люди? Быть такого не может!
А вот почему местная водка в городе Брянске называется «Тютчев» — это понятно: рядом с Брянском находится тютчевский Овстуг. «Тютчев» — брянский бренд. Все логично. Хороший нейм-антропоним. Водка, кстати, хорошая. А вот лаунжбар «Ангола» в Бузулуке — не очень. Что тоже логично. Как говорили древние, «имя — душа именуемого».
4.6. Псевдонимы и прозвища
Выше мы приводили в связи с анализом ритмики неймов некоторые псевдонимы российских поп-звезд. Выбор псевдонима (будь то поп-культура, рок-культура, литература, кино — любая сфера) обусловлен многими факторами. Это и благозвучность, и ритмика, и мнемоничность (запоминаемость), и попытка «уйти» от настоящего имени из-за его недостатков. Здесь очень силен субъективный, чисто, что называется, человеческий фактор (просто захотелось — и все!). Очень часто звезды «переименовываются обратно», просто потому, что во время гастрольных разъездов в отелях приходится предъявлять паспорта, а там другое имя. Возникают проблемы. Но это дело житейское!
Читать дальше
![Владимир Елистратов Нейминг: искусство называть [учебное пособие] обложка книги](/books/394466/vladimir-elistratov-nejming-iskusstvo-nazyvat-u-cover.webp)