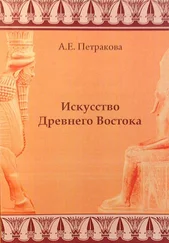Этот сегмент нейминга чрезвычайно разнообразен и богат. Вернее, потенциально он может быть таковым. На деле же, как, к сожалению, обстоят дела и во многих других сферах современного российского нейминга, очень сильны механизмы аналогии, иначе говоря, имитации, подражания, стереотипизации.
Еще в Античности, выясняя основные механизмы развития языка (и соответственно — культуры), ученые разделились на два лагеря. Одни (их «штаб-квартира» находилась в Александрии Египетской) говорили, что всем заправляет аналогия. Другие (из малоазийского города Пергама) считали, что главное — аномалия. Логика аналогистов, если ее экстраполировать на наше время и на русский язык, примерно такова.
Что делает, например, иностранное заимствование в русском языке? Конечно, сразу подстраивается под русские слова, модели, работает по аналогии. «Гугл» тут же стал мужского рода (по аналогии с «протокол», «угол» и т. п.), а «Пежо» — среднего (по модели «гумно», «весло»). Это и есть главный механизм развития языка.
Аномалисты возражали: развитие происходит за счет «сбоев», исключений, революций, аномалий. Кофе в русском языке мужского рода, хотя должно быть среднего. «Мертвец» одушевленный в отличие от «трупа». Мы говорим «машет», хотя по аналогии должны говорить «махает». И т. п. Вот за счет таких «ненормальностей» мы и двигаемся вперед, говорили аномалисты.
Кто прав? И те, и другие. Если говорить о нейминге, то в нем явно ощущается дефицит «творческой аномалии», оригинальности.
В стране колоссальное количество неймов типа «Русалочка» или «Орфей». От «Аленушек» и «Трех богатырей» некуда деться. Все заполонили «Красная шапочка» и «Садко». В принципе, конечно, ничего страшного в этом нет (до тех пор, пока не возникают юридические проблемы, связанные с нарушением авторских прав, плагиата и т. д., об этом мы здесь не говорим), но, тем не менее, мифология, фольклор и литература (а также кинематограф и мультипликация) значительно богаче, и некоторые области неймингом используются крайне «робко», хотя потенциальные неймы из них вполне узнаваемы, раскручены массовой культурой, как говорят лингвисты, прецедентны.
В российском нейминге доминируют либо античная тематика («Аякс», «Бахус», «Дионис», «Гелиос» и проч.), либо отечественная («Золотой петушок», «Морозко», «Петрушка» и т. п., включая неомифонимы XX в. вроде «Чебурашки»). Значительно слабее представлена восточная тема («Шахерезада», «Семирамида» и Т. П.).
Восток — дело тонкое, и здесь, на наш взгляд, неймерам было бы где развернуться. Россия — евразийское нейминг-пространство, и по духу оно должно быть именно евразийским, не в каком-то там идеологически-политическом смысле, а в самом конкретном, языковом и лингвокультурном.
И китайская, и арабо-персидская, и (условно) тюркско-степная культуры в этих сферах используются крайне узко и убого. Остается удивляться, насколько не освоенной нашим неймингом до сих пор остается, к примеру, индийская антропомифонимика. Брахма, Вишну, Шива, Ганеша, Рама, Хануман, Сита — эти и многие другие потенциальные неймы почему-то пока не вошли в активный нейминг или вошли лишь в нейминг «узковосточный». На уровне сети магазинов «Путь к себе». И это при колоссальной популярности Индии и всего индийского в России. Возможно, тут срабатывает некий стереотип: восточный нейм должен быть напрямую связан с Востоком, т. е. с восточным товаром. Это в высшей степени несправедливо.
Почему греческий нейм «Дионис» может обслуживать любую алкогольную продукцию, включая мексиканскую текилу, русскую водку, японское саке, немецкое или чешское пиво, ирландский джин и шотландское пиво, а, например, индийский нейм «Шива» не может быть названием интернационального танц-клуба или дискотеки: образ танцующего Шивы с соответствующим логотипом сторукого танцующего Шивы, известный всему миру, вполне может стать визитной карточкой любого танцевального заведения в любой стране, в том числе и в России.
Очень суженно используются и западные антропомифонимы (не считая антично-греческих, которые вошли в обиход массовой культуры, наследуя традиции Возрождения, а затем XVII в.). Тут все утыкается сначала в сказки Андерсена, Перро или Гофмана («Русалочка», «Кот в сапогах», «Щелкунчик»), а затем в весьма предвзято, тенденциозно подобранный перечень литературных неймов («Дон-Кихот», «Швейк», «Офелия», «Маленький принц» и др.).
Шекспировская «Офелия» в России почему-то особенно популярна. Есть такие салоны красоты (г. Подольск), салон мебели (г. Тольятти), меховой салон (г. Омск), салон цветов (г. Челябинск) и т. п. Цветы и красота — это еще как-то понятно, но мех и мебель почему-то с трудом ассоциируются с героиней Шекспира (к тому же погибшей, что, казалось бы, не должно придавать оптимизма бизнесу).
Читать дальше
![Владимир Елистратов Нейминг: искусство называть [учебное пособие] обложка книги](/books/394466/vladimir-elistratov-nejming-iskusstvo-nazyvat-u-cover.webp)