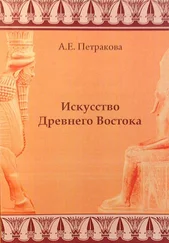Столь же пестра (на грани фола) и стилистико-смысловая картина. Как правило, неймы строятся на контрасте, так сказать, «высокого неместного» со «сниженным местным»: «Мг. Семечкин», «Ланч с Сосискиным», «Мicтер Фоткин». О вкусах не спорят, но, к примеру, сочетание просторечной огласовки отчества — ыч и архаического — ъ в нейме «Колбасычъ» представляется, если можно так выразиться, излишне креативным. Еще не хватало чего-нибудь вроде — offb.
По нашим наблюдениям, бум подобного нейминга с использованием имен, отчеств и фамилий пришелся примерно на середину так называемых нулевых годов. Как будто кто-то невидимый дал отмашку — и началось… Снова все та же модель аналогии — моды. Вроде бы продуктивно, интересно, забавно. И вроде бы затрагиваются какие-то по-настоящему глубинные пласты национального культурно-языкового сознания. С другой стороны, такой шквал однотипных именований, что хочется чего-то иного. Что делать? Единого рецепта нет. Наверное, воспитывать все те же вкус, чувство меры и внутреннюю культуру. Все это у даосов называется «вглядываться в Дао». А Дао — это и есть Миф.
Отметим, что мифологическая семантика, апеллирующая к глубинным пластам сознания потребителя, к его подсознанию, может быть использована, конечно же, далеко не только в неймах-фамилиях и даже не только в антропонимах. И топонимы (названия мест), и астронимы (астрономические именования), и многие другие онимы, как мы увидим ниже, могут быть использованы в нейминге именно в силу своего поэтико-мифологического, культурно-архетипического потенциала.
Архетип — термин, очень широко употребляющийся в современном гуманитарном знании. Впервые введен Карлом Густавом Юнгом, швейцарским психологом и психиатром. От греческих слов arche — начало и tipos — образ. Под архетипом понимается изначальная, врожденная психологическая схема, структура, фантазия, составляющая основу коллективного бессознательного, которое в конечном счете, согласно Юнгу, определяет символику, образность всей человеческой культуры в целом. С психологической точки зрения, нейминг должен апеллировать как раз к этим самым архетипам, а не к поверхностным инстинктам, как это чаще всего случается.
Выше уже упоминалось о том, что современная бизнес-риторика в целом может использовать наработки риторики идеологической, политико-пропагандистской. Надо отдать должное сильнейшим идеологам XX в., которые взывали именно к глубинным архетипам, а не к инстинктам как таковым.
Небольшой пример. Большевики в первые же годы и даже месяцы прихода к власти взяли в идеологический, пропагандистский оборот ключевые архетипы массового сознания. Один из них — образ будущего (разумеется, светлого, счастливого). Образ будущего стал одним из основных, стержневых и цементирующих советскую идеологию на протяжении нескольких десятилетий и успешно работал где-то до 1970-х гг., т. е. более полувека. «Наш паровоз вперед летит», «Надежда — мой компас земной» и т. д. и т. п. Причем необязательно речь шла о прямой пропаганде. «Семантика будущего» пронизывала буквально всю нейминг-сферу. «Мечта», «Голубые дали», «Светлый путь» — тысячи неймов и слоганов так или иначе «включали» «футурологический позитив». Конечно, к 1970-1980-м гг. потенциал этого архетипа выветрился, «замылился», иначе говоря, исчерпался. Но полвека работал он, что бы там ни говорили, отменно. Люди верили надежде, мечте и прочим ракетам, орбитам и далям.
Для сравнения: как показывают исследования лингвиста А. В. Егоровой, в современных неймах и слоганах образ будущего практически отсутствует. В лучшем случае будущее реализуется «здесь и сейчас» в виде лучшего средства для мытья посуды или «виагры». А уверениям в надежности компании потребитель не очень-то верит. Современный нейминг и копирайтинг, по сути, лишает человека будущего, а образ будущего — одна из точек опоры человека. Где нет счастливого будущего, там приходят апокалипсические настроения, а с ними — вялость, скепсис, недоверие и т. п.
Но предложим обзор нейминг-антропонимики.
4.4. Фольклорно-мифологические, литературные и другие имена
В данном случае антропонимами весь этот пласт неймов можно назвать лишь условно. Скорее, речь идет о неких одушевленных мифонимах — от «Колобка» до «Титана», от «Орфея» до «Обломова». Все, что говорилось о мифологической семантике в предыдущем разделе, полностью и, может быть, еще в большей степени относится и к неймам-мифонимам. «Три поросенка» — наверное, скорее нейм-трикстер, а «Геркулес» — нейм-культурный герой.
Читать дальше
![Владимир Елистратов Нейминг: искусство называть [учебное пособие] обложка книги](/books/394466/vladimir-elistratov-nejming-iskusstvo-nazyvat-u-cover.webp)