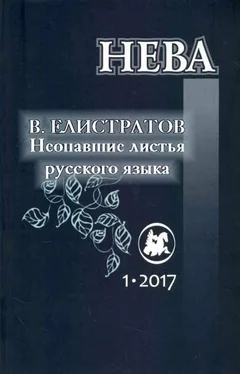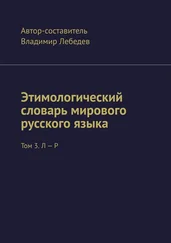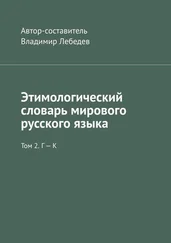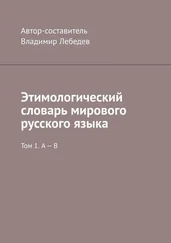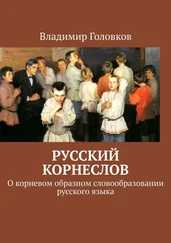История этого корня — своего рода долгий (длившийся не одну тысячу лет) «прорыв» из идеального мира в реальность, из «сказки» — в «быль», из грезы — в действительность.
Древний индоевропейский корень («meik», «meich») имел значение блестеть, мелькать, мерцать. Во многих языках он был осмыслен как подмигивать, искриться, моргать, трепетать. Русское слово «миг», «мигать» (а возможно, и «намекать», «мгла», «мгновение») восходит к той же этимологической базе.
«Мечта» — это что-то лукаво подмигивающее нам из недр нашего воображения (кстати, у персов, таджиков «меша», «мижа» — это ресница). Что-то нереальное, искушающее, отводящее от повседневной жизни. Наваждение, фантом, призрак. Именно с таким значением «мечта» и вошла в русский язык. В. Даль в своем знаменитом словаре так и толкует: «мечтать» — «играть воображением, предаваться игре мыслей, воображать, думать о несбыточном», «мечта» — «всякая картина воображения и игра мысли; пустая, несбыточная выдумка; призрак, видение, мара». Классический пример «мечтателя» — гоголевский Манилов.
Такой человек создал себе мечту, «вмечтался» в нее и «измечтался» (эти слова зафиксированы в XIX веке) до полной «профнепригодности». «Мечта» — это а) нечто воображаемое, видение, призрак, б) нечто неосуществимое, нереальное, в) нечто неправдоподобное. Лишь позже появляется «мечта» как потенциальная реальность, как то, что может осуществиться, как «личный мостик» между идеальным и реальным.
Нужна ли человеку мечта? На этот вопрос каждый человек отвечает по-своему. Кому-то нужна «синица в руке», кому-то — «журавль в небе». Кто-то хочет приобрести «синицу-машину» и на этом успокоиться, а кто-то стать «журавлем-мировой знаменитостью».
И все-таки, если задуматься, мы поймем, что настоящая мечта — это что-то вроде личной стратегической задачи, перспективного долгосрочного планирования. В наши дни чаще говорят не о мечте, а о «карьерных амбициях»…
Нет, все-таки «мечта» — это как-то «теплее» амбиций…
Конечно, можно и перегнуть палку с этим стратегическим планированием и, «вмечтавшись» в химеру, окончательно «измечтаться».
Но, с другой стороны, ограничиться узкими тактическими бытовыми задачами — значит обречь себя на бесцветную скучную жизнь.
Так как насчет «журавля в небе»? Или вас все-таки устраивает «синица в руках»?.. Выбирайте.
Наверное, почти все в школе писали сочинение на тему «Смысл названия романа Л. Н. Толстого «Война и мир». Коротко говоря, смысл этого названия заключается в том, что в слове «мир» Толстой совместил два слова (у каждого из которых к тому же много значений) и, соответственно, придал огромную многозначность и слову «война». Раньше, во времена Л. Толстого, в русском языке было два омофона (это слова, которые по-разному пишутся, но одинаково звучат) — «миръ» и «мiръ», а сейчас — два омонима (мир 1и мир 2). Первый значит космос, вселенная, земля, крестьянский сход, народ, семья, внутренний мир человека и т. д. Второе — согласие, отсутствие войны, мирный договор, покой, тишина и т. д.
Толстой дал, так сказать, «ретросинкретическую» версию слова «мир». Он хотел показать, что Вселенная и согласие, семья и тишина, земля и отсутствие войны, народ и покой — это, говоря языком платонизма, — эманации одного эйдоса. Они односущностны, родственны, «единоутробны». Аналогично: хаос, вражда, антинародность, карьеризм, ссора, развод, интриги и проч. — это производные войны.
Толстой выступил как один из самых отчаянных зороастрийцев, который рассматривал мир как глобальную бинарно-антонимическую оппозицию. Космический порядок существовал тогда, когда частицы добра (мир) и зла (война) были разъединены. А сейчас все перепутано. Надо вернуть современное состояние, когда «мир=война» в первоначальное состояние: «мир≠война». Ахура Мазда, бог Добра-Мира, — отдельно. Ашмойд (Асмодей), бог Зла-Войны, — отдельно. Как котлеты и мухи. Кстати, и в «Анне Карениной» одна из первых фраз чисто зороастрийская: «Все смешалось в доме Облонских».
Так или иначе, слова «война» и «мир» — это, может быть, главная концептуальная оппозиция в современном языке. Это — основные вербализации концептов-универсалий аксиологии (системы человеческих ценностей).
Древнейший индоевропейский корень «mi» («moi», «mei») через суффиксы «r» или «l» (отсюда русские «мир» и «мил») дал в различных языках, причем преимущественно славянских, огромное количество положительно окрашенных смыслов: кроткий, мягкий, хороший, вежливый, ровный, спокойный и т. д. и т. д. Вплоть до значения «пенсия».
Читать дальше